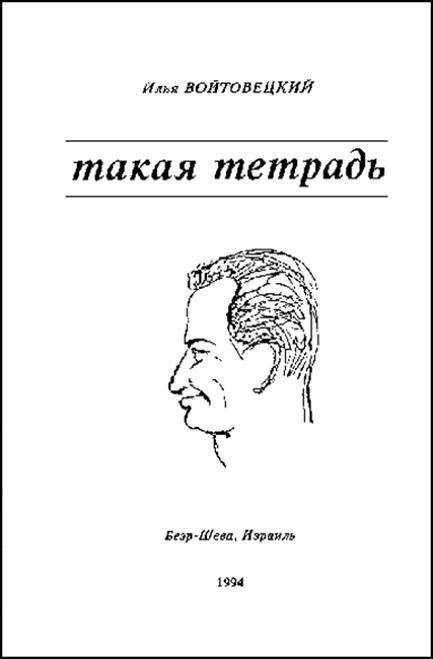
*
* *
"...а Он прочтёт – и заплачет."
О'Вэй, Полное собрание неизданных сочинений.
В Гималаях на
Эвересте
на слияньи
небесных дуг
мы сойдёмся
однажды вместе:
Бог
и я,
испустивший дух.
Среди туч
грозовых и рваных –
там, где
льётся с небес озон,
повстречаемся
мы на равных:
грешный я
и безгрешный
Он.
Я склоню пред
Всевышним выю,
приложу свою
длань к челу.
Знай, мол,
наших! Чай, не впервые!
Разбираемся,
что к чему.
Он, улыбку в
усах не пряча,
мне укажет на
табурет.
Так,
а может быть
– чуть иначе
мы начнём
наше tête-à-tête.
Я сижу в
окруженьи рати
серафимов и
прочих сих –
в наивысшей
из автократий! –
рядовой
рифмоплёт и псих.
– А
теперича по порядку, –
скажет
Господи. – Ишь каков!..
Я Ему протяну
тетрадку
несуразных
моих стихов.
Он подымет
очки повыше,
поворчит про
лихих писак.
Кто возьмётся
и кто опишет
эту встречу
на небесах?
...Вижу:
ангелы
дружной стаей
машут
крыльями надо мной,
а Всевышний
тетрадь листает,
палец мусля
святой слюной.
Линзы Господа
светят тускло,
заслоняя Его
глаза.
Он читает.
И дрогнет
мускул,
поползёт по
щеке слеза,
и Господь, не
приличий ради,
потирая
припухлость век,
тихо скажет:
– такой тетради
я не
видывал, брат, вовек...
Снарядит меня
в путь-дорогу,
постоит со
мной у ворот.
Ходят слухи о
том, что Бога
просто
выдумал праздный сброд.
Только слухам
таким не верьте,
не спешите
задуть свечу...
Я
стихи мои после смерти
лично
в руки Ему вручу.
1990
*
* *
Как просто жизнь прожить, не дуя в ус,
служа не императору, а Музам,
не приниматься в творческий союз,
затем не исключаться из союза,
за назначенье, званье или сан
не гнуть хребет, не преклонять колени.
Всё было просто:
вздумал – написал,
поволочился, пострелялся. –
Гений!..
1992
ПОМИНАЛЬНОЕ
Ни камня, ни креста, ни места –
вздохнём:
– Жила-была...
Строка – в века,
молчанье – месса,
судьба – Елабуга.
Не пророню ни слова. И не напомню снова.
Да и помочь-то нечем: путь наш невечный – мечен.
Чем? – Высоким оградом (адом!).
Чем? – Пустотою рядом (ядом!).
Чем? – Душевным надломом (ломом!).
Чем? – Подавленным стоном (что нам...).
И нераскрытой книгой, и недопетой фразой.
(Лучше – единым мигом. Предпочитаю – сразу.)
И задутой свечою (стелется дух стеарина).
Ах, извините – о чём я?
...Звали её: Марина.
1988
* * *
Горсовет Воронежа отказался
назвать улицу,
на которой во время
Воронежской ссылки
жил Осип Эмильевич
Мандельштам, именем
поэта по причине
неблагозвучности его фамилии.
(Из сообщения ЦТ в конце 1989 года.)
"Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!"
О.Мандельштам, 1934
Строка, как страсть, страшна и
долгожданна –
сплетенье мук, восторгов и обид.
В Воронеже убили Мандельштама
спустя полвека, как он был убит.
Опять вещает вождь под гром оваций,
опять маячит крейсер над Невой,
и улица не будет называться
неблагозвучным именем его.
Вот так всегда:
лишь только память тронешь,
его строки густой настой
вдохнёшь –
выводит на расстрел его Воронеж.
Воронеж – блажь?
Воронеж – ворон, нож!
1990
Борис ПАСТЕРНАК
I
"Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?"
Б.Пастернак, "Про эти стихи", 1917
Проходит время мимо
под барабанный бой.
А боль – неутолима,
невыразима боль.
Мгновенья, словно мины,
идут цепочкой вех.
Не одарил нас миром
неумолимый век:
недобрые повадки,
немыслимый конец.
А над кровавой схваткой
безмолвствует Творец.
Безмолвствует – и этим
неодолим в войне,
он вне тысячелетий
и наших судеб вне –
как камертон, настроен
на самый чистый тон.
Однажды мы раскроем
его терзаний том.
Раскроем – и отметим,
что выжили в бою,
и в каждом междометье
прочтём про боль свою.
1989
II
Любитель песни "Сулико"
жил с музами легко и просто:
шутил легко, смещал легко
и подсыпал в кормушку просо.
Но не клевал Служитель Муз
из вседержавного корыта,
и вождь сучил сердито ус
и трубку набивал сердито.
Был листопад.
Был снегопад.
Шары голов летели в лузы.
Мудак отплясывал гопак.
Гремели пушки.
Глохли Музы.
Но неоглохшая одна
ещё шептала по-старинке,
чтоб чашу мог испить до дна
поклонник Скрябина и Рильке.
Ему ли было по плечу
одаривать бессмертьем строки!
Но видно – Промысел высокий
не дал задуть его свечу.
Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела!
1989
III
Мне нравится писать стихи,
блуждать в словесных лабиринтах,
как будто бы искать в степи
одну заветную тропинку.
Пытаюсь я проникнуть в звук.
Чуть поворачивая фразу,
я обнаруживаю вдруг
срез для гранения алмаза.
В перестановках слов и строк,
в их кажущемся беспорядке
вдруг нахожу порядок кладки –
и он внезапно нов и строг.
А впрочем – это ложный след:
терзать себя в пустой надежде. –
Стихи готовы были прежде,
чем появиться им на свет.
Стихи – не плод мирских тревог,
людских терзаний и горенья:
в один из первых дней творенья
их вместе с миром создал Бог.
Они, как воздух, как вода,
как хмель – безумствуют и бродят,
они везде, они всегда:
в мужчинах, в женщинах, в природе.
И есть на ком-то Божий знак –
и милостивый, и высокий.
Придёт однажды Пастернак
и нам подарит эти строки.
Он их возьмёт из кутерьмы,
из дыма, из навозных грядок –
возьмёт оттуда, где и мы
бездумно проходили рядом.
Он их подарит нам, как сад
даёт нектар – пахуч и сладок,
или как дарит водопад
каскад потоков, брызг и радуг.
Он их оставит на земле
как вечный зов души и тела:
"Свеча горела на столе."
И – словно вздох:
"Свеча горела..."
А я сижу, пишу стихи,
мечусь в словесных лабиринтах
и всё ищу свою тропинку
в давно исхоженной степи.
1987
IV
6 марта 1993 года
"Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке
плоты,
Ко Мне на суд, как баржи
каравана,
Столетья поплывут из
темноты".
Б.Пастернак,
Заключительные
строки романа "Доктор Живаго".
Ольге Ивинской
Поздний час.
Не пьём, не балагурим.
Домочадцы спят уже давно.
Как всегда, и в этот праздник Пурим
ноготками дождь стучит в окно.
Он с листвою на ветру судачит
в ярком свете красочных реклам.
Отключился телепередатчик,
вспышками покрыв телеэкран.
Притаились потолок и стены,
заползла в углы ночная тьма...
Под "Экспромт-Фантазию" Шопена
я могу всю ночь сходить с ума.
Вечно длись, непреходящесть мига!
Будничность, попридержи свой шаг!
...Ночь,
"Экспромт-Фантазия"
и книга –
в мире
я,
Шопен
и Пастернак.
Я сердцебиение умерю,
вдаль вгляжусь, где не видать ни зги,
вслушаюсь, как шаркают за дверью
еле различимые шаги. –
Поздний гость...
А там, на поле брани,
чья-то правда и ничья вина,
снежные заносы на Урале,
голод и Гражданская война,
горе, горе – и потоки крови –
целое столетье кровь и кровь!..
У героя слабое здоровье.
У героя сильная любовь.
Слабы голоса и тени шатки,
и нечётки очертанья лиц...
Он уже на лестничной площадке –
он шагнул с распахнутых страниц,
он среди вселенского пожара
одинок, растерян и раним.
Кто откроет: Тоня или Лара –
дверь ему и сердце перед ним?
Поздний час.
Не пьём, не балагурим.
Домочадцы спят уже давно.
Как всегда, и в этот праздник Пурим,
ноготками дождь стучит в окно.
Шёпот ветра...
шелест...
шорох шага...
шум листвы...
Безумствует струна!
Слышу голос Юрия Живаго.
Открываю.
Входит Пастернак.
А вокруг – чужие чьи-то лица...
пульс в висках...
и подступает тьма...
кровью наполняется аорта...
Я под звук последнего аккорда
дочитал последнюю страницу,
понимая, что сошёл с ума.
1993
БЕТХОВЕН
Бетховен глух.
Не скрипнет половица,
не взвизгнет дверь проржавленной петлёй.
А за окном в ветвях щебечут птицы
и дышит свежий ветер над землёй.
Бетховен глух.
А может быть, напротив,
мир оробел и, звуки поборов,
беседует беззвучьем подворотен
и немотой подъездов и дворов.
Бетховен глух.
Уйдя безумной гривой
в изгиб спины и неподвижность плеч,
он, пальцы сжав, следит, как луч игривый
на клавиши пытается прилечь.
Бетховен глух.
Всевластен страх беззвучья,
всесилен устрашающий недуг,
но в тишине рождается певучий,
почти невыносимо чистый звук.
Бетховен глух.
Он глух к полночным скрипам,
к ворчливым дрязгам, к суете сует,
он мрачен, нелюдим, угрюм и скрытен.
Бетховен глух.
Бетховен глух? – О, нет!
Он ночью у постели неизмятой
задумчиво сидит, как манекен.
Он слышит взлёты будущей Девятой,
не слышанной пока ещё никем.
Язык распухший шевелится сухо,
прикрытый глаз в орбите изнемог,
и самым чутким, самым острым слухом
Бетховен слышит, как вздыхает Бог.
1989
* * *
"Дай мне горькие годы
недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар..."
А.А.Ахматова, "Молитва", 1915
"Кто чего боится,
То с тем и случится."
А.А.Ахматова, "Песенки", 1943
Такие лица в полутьме икон
писали, проходя настилом шатким.
Двадцатый век, приди к ней на поклон
и перед ней сними смиренно шапку
–
за всё за то, что выполнил сполна,
о чём просила и о чём молчала,
за всё за то, что жизнь свою она,
перечеркнув, не проживёт сначала
–
двадцатый век, приди к ней на поклон.
...Фонтанный дом, окно и старый
клён –
они свидетели всего на свете.
А у порога новое столетье.
1988
* * *
Злате
РАЗДОЛИНОЙ
I
Всё оставляем: и поля, и реки мы,
и рощи, и леса с густыми чащами,
но наш последний, наш прощальный Реквием
ещё звучит за нами, уходящими.
Пусть над Невою – облачною, серою –
отплачет он над гладью и над волнами,
расплачиваясь самой полной мерою
за всё, чем души наши переполнены.
Мы помним и хорошее, и всякое.
Да будет время нам надёжным лекарем!
Плывёт над куполами Исаакия
последний вздох –
прощальный
возглас –
Реквием.
Ширь небосвода по-российски матова...
взлетаем ввысь...
планета наша вертится...
и машет нам рукою вслед Ахматова
–
великая России страстотерпица.
1990
II
Не замирайте на высокой ноте...
Туда, где плещет невская вода,
Вы не вернётесь.
Павловск не вернёте.
К Вам Павловск не вернётся никогда.
Стряхните грёзы, встаньте утром рано,
и пусть, неприхотливы и просты,
звучат для Вас под небом Авраама
гортанные мелодии пустынь.
Пусть в дальней дали будут неустанно
тянуться ветви к серым небесам,
пусть вечно будет там, как прежде, Анна
прислушиваться чутко к голосам. –
Стряхните грёзы, встаньте утром рано,
и пусть, неприхотливы и просты,
звучат для Вас под небом Авраама
печальные мелодии пустынь.
1991
Злата РАЗДОЛИНА – композитор и певица, автор музыки
к "Реквиему" А.А.Ахматовой, жила в Павловске под Ленин-
градом, с 1990г. в Израиле.
* * *
Эстер
Ефимовне МАРКИШ –
вдове
Поэта.
"...Вал и ров.
По – щады не жди!
В сём христианнейшем из
миров
Поэты – жиды!"
М.И.Цветаева, "Поэма конца", 1924
Убит Поэт.
У мира отнят
блеск дальних звёзд и шёпот крон,
и пересвистом красной сотни
в стране свирепствует погром.
Опять в котле безумной варки
убитые не на войне.
Он был Поэтом, Перец Маркиш –
а, стало быть, жидом вдвойне.
Всё тленно. Даже имя сгинет.
Умрёт народ, коль мёртв Поэт.
Ни камня на его могиле,
да и могилы тоже нет.
Никто судьбу не пересилит.
Друзья молчат, резвится враг,
и над немытою Россией
господствует великий мрак.
Но за чертой, где полдень жаркий,
где дали, словно взмах руки,
живёт мальчишка Перец Маркиш,
как продолжение строки.
Бездонно небо голубое,
и соком налита лоза,
и бабушка глядит с любовью
в его библейские глаза.
1989
МАРК ШАГАЛ
Скрипач на крыше, а невеста – в воздухе.
Как счастлив чуть подвыпивший жених!
Еврейская судьба: ни сна, ни
отдыха –
пусть повезёт кому-нибудь из них.
Кружится над сожжёнными местечками,
как белый снег, такой же белый пух.
Здесь были хаты – хаты по-над речками,
теперь растут осока да лопух.
Скрипач сюда не возвратится более,
поскольку нет родных еврейских крыш,
и, мучимый бесчисленными болями,
жених уехал навсегда в Париж.
А по дороге, под чужими дулами,
и стыд, и боль в душе не поборов,
невеста с пожилыми балагулами
нагая шла осенней ночью в ров.
Исчезло всё. Неведомыми рейсами
ушли – кто прямо в ад, кто прямо в рай,
и не звучит напевами еврейскими
чужой и вовсе не еврейский край.
Чужая речь за старыми оградами,
субботнее застолье без свечи.
Но будут жить –
и будут души радовать –
на чьих-то крышах наши скрипачи.
1991
* * *
В начале 1962 года Владимир Высоцкий, тогда
малозаметный актёр Московского Театра Миниатюр, находился на гастролях в моём
родном городе Свердловске, который в то время ещё не оправился от последствий
ядерного взрыва вблизи Кыштыма. Высоцкий коротал время в гостинице
"Большой Урал", писал полные любви и безысходности письма жене Люсе
Абрамовой и тосковал по оставленной им Москве.
Ещё ему приветствий не орали,
ещё он был живым и молодым.
Он номер занимал в "Большом
Урале",
глотая стронций и вдыхая дым.
Ещё не автор ни стихов, ни песен,
ещё не Гамлет и не Галилей,
не знаменит, не знатен, неизвестен –
лишь гастролёр в провинции моей.
Стакан...
(в него уже напиток налит),
глоток, глоток...
(и осушён до дна).
Никто не ведал,
что рождался Гамлет
уже тогда
(да-да, уже – тогда!).
И над уральской тусклою Исетью*,
над всем его метаньем кочевым
уже
вставало
трудное
бессмертье
и, словно рок,
искало встречи с ним.
1990
*Исеть – речка, на берегах которой был построен Екатеринбург (Свердловск).
*
* *
21 ноября 1991 года в Москве покончила счёты с жизнью
поэт, фронтовик Юлия Друнина. Она плотно закрыла
дверь гаража, запустила мотор автомашины и стала
спокойно
ждать конца.
В предсмертном письме она просила никого в случившемся
не винить.
Юлии Друниной было 67 лет.
Очередная новость – и стал теснее круг.
...Есть вещь такая: совесть – сомнительный недуг.
Порыву повинуясь, взмолиться б:
– Не боли!
Прошли бои сквозь юность.
Шла юность сквозь бои.
Остаться бы собою, не угодить бы в сеть,
бойцу на поле боя принять достойно смерть,
но времена всё круче, последний свет погас,
но есть – на крайний случай – автомобильный газ.
Не стать уже иною, сказав себе:
– Держись!..
Вся жизнь была войною. –
Война длиною в жизнь.
Но в стане ложных истин порою жизнь – вина.
Но акт уже подписан – и кончилась война.
1991
* * *
Простираю я руки в улицы,
как в бездонные рукава.
Мне глазастые звёзды-умницы
шепчут ласковые слова.
Полнолунья округлость медная
мирозданию в унисон,
проплывая над миром медленно,
вздох роняет в межзвёздный звон.
Я внимаю звучанью этому
за пределами лет и зим.
Крыши тёмными силуэтами
окунулись в ночную синь.
За разлапистой чёрной пальмою,
очарован, заворожён,
заколдованный далью дальнею,
поднял палочку Дирижёр.
Над сомненьями и досадами
вознеся весь свой дюжий рост,
дирижирует Он цикадами,
мириадами снов и звёзд.
И в загадочность ту негромкую,
ненавязчивы и тихи,
у окна занавеску комкая,
я вплетаю мои стихи.
1989
МУЗЫКА
Я слышу музыку. Она
меня не покоряет блеском.
В её звучаньи – слишком веском –
порою сдержанность слышна.
Я чувствую, как даль плотна.
Я представляю очень ясно,
что совершенно неподвластна
напору музыки она.
Я слушаю полутона
и вглядываюсь в полутени:
вот, удаляясь, полетели
они за плоскость полотна –
туда, где явь темным-темна.
Но всё увереннее руки
её преображают в звуки,
в которых плещется луна.
Со взбаламученного дна
уже на звуки неразъята
всплывает Лунная соната
и в мире властвует.
Одна.
1988
* * *
Святославу
Рихтеру
Стаккатный ливень
тысячеперст.
Стократ счастливый
рояль разверст.
Всей глуби залежь
разворошил
размахом клавиш,
натягом жил.
Бушует ливень
тысячеструй
в сеченьи линий,
в дрожаньи струн,
и тишь примята,
и вдаль круги.
Аккорд, фермата
и взмах руки.
Завеса теней,
и зал глубок.
На авансцене
усталый бог
над круговертью –
сквозь непокой –
и до бессмертья
подать рукой.
1987
*
* *
Кажется,
я в храм уже допущен.
Говор
мой и глаз нерусских цвет
приняли
б, пожалуй, А.С.Пушкин,
Лермонтов,
Некрасов, даже Фет(!).
Русским
словом, рифмами, стихами
Я
владею, кажется, вполне.
Только
Мордехай, Абрам и Хаим
Вовсе
не нуждаются во мне…
1988
ВСТРЕЧА С РЕМБРАНДТОМ
וְהָיוּ
לִמְאוֹרֹת
בִּרְקִיעַ
הַשָּמַיִם
לְהָאִיר
עַל-הָאָרֶץ
וַיְהִי-כֵן:
בראשית,
ט"ו
И да будут они светильниками на твер
ди небесной, чтобы светить на землю.
И стало так.
"Бытие",
стих 15.
Нет, луч его – не просто луч,
а луч, пронзивший толщу туч,
а луч, прорвавшийся на миг –
и кисти взмах
его настиг.
А если тьма, и нет луча –
тогда впотьмах горит свеча,
горит – и за завесой тьмы
лишь лик на миг увидим мы
и трепет рук, и взгляда блик...
и к нёбу прирастёт язык,
и прирастёт ещё не раз,
робея от напора фраз –
когда бессильна наша речь
пред немотою этих встреч.
1990
* * *
Саше
ОКУНЮ,
соорудившему
"Престол Всевышнего"
с
живою рыбкою золотою.
Однажды золотою рыбкой
художник Бога одарил.
Вставал рассвет полоской зыбкой.
Туман стелился меж стропил.
Всевышний, сидя на Престоле,
вершил Свой Суд на Небесах:
читал доносы в Протоколе,
ворчал под Нос: "Mein Gott! Доколе?",
икая, хохотал до колик
и двигал Гирьки на Весах.
А души (Боже, что за души!)
сбивались кучно в уголки
и крали – то флакончик туши,
то разноцветные мелки,
бранились долгими часами
пока Господь водил Перстом,
на стенах глупости писали,
загадив ими весь Престол.
Очнувшись на исходе ночи,
Всевышний встал (не с той Ноги),
свершил Молитву ("Авва Отче!"),
вздохнул, устало вскинул Очи,
воскликнул:
– К чёрту! Нету мочи!
взмолился:
– Рыбка, помоги! –
и та, без слов пустопорожних,
сказала ласково Ему:
– Не бзди, старик, придёт Художник,
Он разберётся, что к чему.
14 августа 1994 года
* * *
Игорю
Губерману
Мне, удачливому, отмерено
долголетье у стен твердынь.
Я уже не уйду безвременно,
не умру уже молодым.
Дотянул до седого возраста
без особых на то потуг
и годочков, наверно, возле ста
испущу мой нетленный дух.
Прошепчу я слова последние
и бессильно махну рукой.
Не повздорят мои наследники,
проводив меня на покой.
По кладбищенскому по гравию
я отправлюсь в последний путь,
и о жизни моей о правильной
скажет правильно кто-нибудь.
Так предписано, так отмерено,
и испить суждено до дна
чашу полную (но Сальери мне
не плеснул своего вина!)
Почему среди буйства дымного
безмятежно пронёс я крест?
Разминулся ли я с Мартыновым?
Испугался ли мой Дантес?
У чужого костра согреться ли,
если свищет свирепый норд!
...Уплывает в далёкую Грецию
беспокойный английский лорд.
1988
* * *
Дыханье лет, как своры гончих,
всё ближе слышу у плеча,
и всё бросаю, не закончив,
а часто – даже не начав.
Я как-нибудь перезимую,
не дотянувшись до вершин.
– Но вот ведь Шуберт: он
Восьмую
так до сих пор не завершил! –
И Провиденье промолчало –
впервые на моём веку.
А мне – такое бы начало! –
хотя бы первую строку!
Пройтись по клавишам потёртым,
а после:
в зале при свечах
его вступительным аккордом –
одной бы ноткой – прозвучать!
Мне б только миг его горений,
мгновенный всплеск его огня...
Звучит Симфония.
И Гений
с гравюры смотрит на меня.
1987
приглашение к
шопену
Лене Залко
Прóшу, пани, прóшу, Лена,
прóшу Вас я:
поиграйте мне Шопена
в ритме вальса.
Наважденье – эти звуки,
эти трели,
словно отзвуки разлуки
и потери.
В нашем крае неморозном
и хамсинном
затоскуем по берёзам,
по осинам.
Здесь цветут в пустыне маки,
словно в Польше.
Мы немножечко поляки –
даже больше.
В наших душах не завянет
гроздь сирени.
Мы немножечко славяне –
хоть евреи.
Мы для пана – совершенно
иноверцы.
Поиграйте мне Шопена
в ритме сердца.
3 августа 1994 года
рисунки на компьютере
Скользит в дисководе головка,
и точка ползёт вдоль экрана.
Как умно, как тонко, как ловко
построена кем-то программа!
По пьянке ль нечистый попутал?
Вмешался ль по трезвости Чистый?
Бесстрастен трудяга-компьютер...
Но мысль озаряется Искрой!
В тиши неопознанный некто
мелькнул незамеченной тенью,
рождая в подкорковых клетках
невиданных линий сплетенье,
а может быть – женщина как-то
взглянула,
а может быть – дождик
прошёл,
да вот этого факта
совсем не отметил художник.
12 июля 1994 года
песенка
(под гитару)
I
На маленькой кухоньке тесно,
весь мир – от стены до стены.
Здесь тихие-тихие песни
до позднего часа слышны.
За стенами грозно держава
буравит ракетами тьму.
На кухне поёт, нам поёт Окуджава,
и мы подпеваем ему.
Аккорды гитарные грустно
звучат на любом этаже.
Остыла в тарелках закуска,
и водка согрелась уже.
Мы слушаем, слушаем жадно.
В густом сигаретном дыму
нам тихо поёт, нам поёт Окуджава,
и мы подпеваем ему.
20 июля 1994 года
II
(Написана после выхода книги
и в неё, естественно, не вошла)
...а где-то там, в безвестной кухне,
вдали от храмов и палат,
обутый в комнатные туфли,
сидит задумчивый Булат.
Сидит – не молодой, не старый,
оставшийся самим собой,
в обнимку со своей гитарой –
в обнимку со своей судьбой.
Он встретился с отцом и братом
и обнял маму.
А теперь
он молча встал, побрёл Арбатом
и тихо постучался в дверь...
25июня 1997года
* * *
Историческая справка:
13 января 1948 года по приказу И.Сталина был убит
Шломо Михоэлс.
14 мая того же года Давид Бен-Гурион объявил о
создании Государства Израиль.
В праздник Пурим 1953 года умер И.Сталин.
Памяти
Шломо МИХОЭЛСА
Плыл гроб под траурными флагами.
Гудел большак.
А люди плакали и плакали,
смиряя шаг.
Промёрзшие ограды слышали
тот скорбный плач,
а над заснеженными крышами
парил скрипач.
Горели, убывая, свечи, и
густела мгла.
На небосвод шестиконечная
звезда легла.
Нет в жизни – начисто и начерно
(с тюрьмой, с сумой).
Но будет Пурим – так назначено
судьбой самой.
Так было и так будет.
Вечная –
гори всегда,
моя звезда шестиконечная –
твоя звезда!
1994
УТРЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
Я
слышу лязг стального динозавра.
Я
вмиг проснулся, выглянул во двор
и
понял, что уже настало завтра
и
мусорщики убирают двор.
А
значит нужно встать, почистить зубы
и
навести нехитрый марафет.
Июль
проходит.
Дни
идут наубыль.
И
ночь длиннее,
и
поздней рассвет.
А
мусорщики курят у забора,
ислышат,
просыпаясь, петухи
негромкий
смех, обрывки разговора
и
русский мат, и русские стихи.
21 июля 1994 года.
* * *
Бывшему
питерцу,
а
ныне трудящемуся Востока
поэту-фронтовику
Михаилу
КОРОБОВУ
Я не бродил ночами белыми,
а тосковал в тени рябин.
Но мы с тобой не пальцем деланы –
и вот дожили до седин.
Чего-то в жизни мы да стоили,
хлебнули на веку с лихвой,
и даже вписаны в истории
двух самых справедливых войн.
Винить нам в неудачах некого,
не просим за добро наград.
Под раскалённым небом Негева
мы встретились как с братом брат.
Здесь, как в эпоху Вавилона, мы
перемешали языки:
витиеватость соломоновой
и точность пушкинской строки.
Стремимся до вершин добраться, но
при этом сохранив лицо.
Пусть мы не боцманы, а кацманы,
да любим крепкое словцо.
Мы работяги, а не зрители,
и – пусть читатель нас простит –
порой – на русском, на иврите ли –
легко "словцо" вплетаем в стих.
И сердце бьётся в упоенье,
и воскресают вновь и вновь
и божество, и вдохновенье,
и жизнь, и слёзы, и любовь.
11 февраля 1994 года
В ВЕЧНОМ ПОИСКЕ КРАСОТЫ
Белой дымкой окутан весь я,
зори праздную, росы пью.
Мне навстречу летят созвездья
самой чистою россыпью.
Верю ль в чёрта,
молюсь ли Богу,
всё бросаю и жгу мосты.
Отправляюсь я в путь-дорогу
в вечном поиске красоты.
Кем я был в превращеньях прежних?
Резал правду? Юлил и лгал?
Кто я: праведник или грешник?
Повелитель или слуга?
Не за правдою, не за ложью
отправляюсь я в зной и стынь.–
Я шагаю по бездорожью
в вечном поиске красоты.
Заблуждающийся, заблудший
средь абсурдных речей и вех,
из – где глубже – и из – где лучше –
просто-напросто человек,
веря в то, что чего-то стою,
всё черкаю,
всё рву листы –
очарованный красотою
в вечном поиске красоты.
12 мая 1994 года
30 ноября 1993 года в Араде
Лене
Аксельрод
Ноябрь кончался этим вечером,
и близился урочный час,
и полная луна засвечена
была, конечно же, для Вас,
и звёзды, будто бы наклеены
на бесконечность синевы.
Окраиной была Вселенная,
а центром – безусловно Вы.
Такая хрупкая и тихая,
под стать Поэзии самой,
Вы сладили с неразберихою,
зловредностью и кутерьмой.
Поэзия – от бед укрытие,
порою и сама – беда,
евреев Жмеринки и Питера
негромко позвала сюда.
И Вас они просили,
времени
утратив драгоценный счёт:
– Ещё одно стихотворение!
– Ещё, пожалуйста, ещё!
Чернели пальмы в лунном блеске, и
мерцали звёзды вдалеке,
и слушали холмы библейские
стихи на русском языке.
2 декабря 1993 года
* * *
Ирочке
РАКАНТ –
дивной
пианистке
и
очаровательной девоньке
шестнадцати
лет от роду.
Был звук, был лик!
Увы, так быстротечен –
всего лишь миг! –
и вот окончен вечер.
И тишь, и звук
меняются ролями.
Не позовут
тебя опять к роялю.
Уйдёшь домой,
опустишь тихо плечи...
Но – Боже мой! –
ведь был он, этот вечер,
бурлил, шумел,
безумствовал, раскован:
поток –
Шопен!
и океан –
Бетховен!
вприсядку –
Брамс!
в обнимку –
Дунаевский!
(все вместе, враз –
аккорды, взлёты, всплески).
...Не блекнет свет
в столетьях – тают свечи.
Был миг...
Есть век...
И – не окончен вечер.
13 февраля 1994 года
HOMO SAPIENS
Живу
–
посланец
мига в царстве вечности –
с
тревогою:
что
ждёт меня в конце?
Моё
предназначенье:
щит
ли?
меч
–
нести?
с
трагической улыбкой на лице.
Наступит
ли мгновение –
то
самое?
Реальна
ль явь?
И
радужны ли сны?
Звучит
мой смех,
невидима
слеза моя,
и
Чаплин грустно смотрит со стены.
1992
СОТВОРЕНИЕ МИРА
Лёве СЫРКИНУ,
сотворившему на древней земле
Израиля
во граде библейском
Содоме
воду и огнь и райские
кущи,
цветущие во свете
дня
и во тьме
нщи,
познавшему муки и радость
Творчества
и подарившему их
нам.
Творец потёр задумчиво глаза.
Он скрипнул на ходу вселенской осью,
неторопясь поднялся на леса
и головой над хаосом вознёсся.
Был первый день
(точнее – день один).
Творец в работе не любил халтуру.
Он по площадке молча походил
и пятернёй разгладил шевелюру –
вернее, место, где она росла,
когда он был неопытным и юным.
Вот ангел тихо прикоснулся к струнам.
Творец очнулся.
Капнула роса.
Творец творил.
Пусть будут Хлябь и Твердь,
пусть будут Свет и Тьма,
Луна и Солнце,
Восторг и Огорченье,
Жизнь и Смерть –
и пусть всё это в Вечность понесётся.
Творец творит.
Вселенная в бреду...
плывёт туман...
струится лучик тонкий...
Я подойду – и постою в сторонке.
Я постою в сторонке –
и уйду.
1992
* * *
Тане
Бабушкиной –
редактору
газеты "Новая панорама"
Читатель, стихов не читая,
живёт, как сохарь от сохи.
Иным не чета, не чета я –
я чту и читаю стихи.
Вот так-то, приятель, вот так-то.
А чтоб поддержать свою честь,
сей факт самый строгий редактор
как фактор обязан учесть.
Придя в кабинет спозаранку
в предгрозье безумного дня,
одну стихотворную гранку
он станет верстать для меня.
Отложит докучную почту,
ругнёт актуальную весть,
одну стихотворную строчку
прочтёт – и засветится весь,
и вместо всех громов и молний,
которые вдруг улеглись,
своею улыбкой наполнит
ещё незаполненный лист.
1990
Для
самих себя –
про
самих себя
Кто варит сталь, а кто-то вяжет веники,
кто делает ракеты, кто духи,
а мы – мы, безусловно, шизофреники,
поскольку тратим время на стихи.
Занятье это нам сулит не почести,
не Божий, а людской неправый суд.
Бывает, почесаться очень хочется.
Стихосложенье – это тоже зуд.
Нас тихо презирают наши близкие
и громко осуждают кореша,
а мы корпим над глупыми записками,
и нам за них не платят ни гроша.
Ни наши имена, ни наши отчества
кассиры в свой компьютер не внесут.
Бывает, почесаться очень хочется.
Стихосложенье – это тоже зуд.
Всё так, и удивляться вовсе нечему.
Не осуждайте сирых и калек.
Старайтесь не перечить сумасшедшему,
поскольку это тоже человек.
Пусть верит в то, что, занимаясь творчеством,
вершит он некий благородный труд.
Бывает, почесаться очень хочется.
Стихосложенье – это тоже зуд.
Мы пишем с каждым днём всё совершеннее,
корпим над перепачканным листом.
Мы – психи. Нами принято решение,
и непреклонно мы стоим на том,
что есть занятья на земле
полезнее –
на норд пойдём или пойдём на
зюйд –
и пусть стихосложенье – это зуд,
но из него рождается Поэзия!
24 февраля 1994 года
*
* *
Примеряю платье Короля
вовсе не пустой забавы для,
а поскольку чувствую нутром,
что и я бы мог взойти на Трон.
Говорят, что платья королей
часто шьют компании вралей.
Вот теперь определить изволь,
что за платье носит твой король.
У меня есть зрение и слух,
чтобы отличить одно из двух:
кто портной – а кто играет роль,
гол король – или одет король.
Если ошибусь, тогда конец:
я покину навсегда Дворец,
но с орбиты не сойдёт земля
без меня на Троне Короля...
1987
MONUMENTUM
"Exegi monumentum."
Квинт
Гораций Флакк,
"Оды", Книга
третья, "К Мельпомене" -- I в.до н.э.
"Я памятник себе
воздвиг..."
А.С.Пушкин, "Памятник" -- 1836г.
"...моим стихам, как
драгоценным винам,
настанет свой черёд."
М.И.Цветаева,
"Моим
стихам" -- 1913г.
I
Ах, не ставьте мне, не ставьте монумента!
Ах, не стройте мне, не стройте пьедестала!
Церемония, торжественная лента –
только этого ещё не доставало!
Я не мню себя на троне и с короной,
потому и повторяю неустанно:
человек разносторонний я, но
скромный –
мне не надо, мне не надо пьедестала!
Оказалось, что до данного момента
мне никто не думал ставить монумента.
Ну, а всё-таки, на всякий крайний случай,
я заранее скажу, так будет лучше.
1992
II
Кость от кости и плоть от плоти –
мои стихи, мой крест и труд.
Однажды в твёрдом переплёте
их непременно издадут,
и признанный при жизни классик –
в вопросах данных не слабак –
не пожалеет светлых красок
в своих напутственных словах.
Высокий лоб, ума палаты,
во взгляде сдержанная грусть –
мои стихи, мои баллады
он прочитает наизусть.
Сквозь грань веков он сблизит сроки,
играя складкою на лбу.
Мои разрозненные строки
уйдут цитатами в толпу.
И плотник будущей Мадонне,
оторопев от этих строк,
как высший знак любви – мой томик
надпишет в дар наискосок.
1992
из книги
"Не
будоражу память грёзами"
*
* *
Требуя
пожизненную дань,
не
зови, не уводи из дома,
жёлтая
берёзовая даль –
листопада
пряная истома.
Не
бледнея за туманом лет,
тянутся
от моего порога
белый
снег и синий санный след,
синий
лес и белая дорога.
степь
холмится. Мне издалека
кланяется
каждая травинка.
Перелесок.
Речка. Облака.
Ветка
ивы. Лунная тропинка.
Нет,
не перехватывают вдох
пальцы
спазм безжалостно тугие,
в
прошлое не тянет поводок
непреодолимой
ностальгии.
Новая
написана глава.
Я
уже из прежних списков выбыл.
И
вступил уверенно в права
сделанный
бесповоротно выбор.
Перекрёсток
судеб, смена вех,
новые
развилки и маршруты,
и
рога серебряные вверх
южный
месяц задирает круто.
Я
уже ступил за перевал.
Спуск,
как на ускоренном прогоне.
Лают
псы, шагает караван,
и
конец дороги чуют кони.
Счёт
уже оплачен и закрыт.
Догорают
в очаге поленья. –
Так
диктуют правила игры,
что
зовётся сменой поколений.
И
когда через десятки лет
сын
седую голову приклонит,
он
припомнит пальмы силуэт
на
вечернем звёздном небосклоне,
цитрусовых
солнечный сафьян,
зимние
дожди и сухость лета,
потому
что нашим сыновьям
мы
в наследство оставляем это.
И
среди житейской маяты
им
дурманить головы не будут
голубые
тихие цветы
полевых
далёких незабудок.
1987
*
* *
И
изморозь, и морось,
и
гниль замшелых пней –
дописанная
повесть
давно
ушедших дней.
Пахнёт
из детства пряно
опавшая
листва –
как
сладостно и странно
кружится
голова!
Пройдёт
вечерний поезд –
зашторено
окно.
Дописанная
повесть
прочитана
давно.
1990
ПУСТЫНЯ
Её
жажда неутолима,
её
дали желты и ясны.
В
поселении бедуина
бродят
жёны, собаки, ослы.
Её
камень от древности сморщен,
небосклон
её празднично чист,
в
нём кругами дозорными коршун
ходит,
словно заправский чекист.
Раскалённость
её не остынет,
жар
её неизменен и жгуч,
и
безжалостно корчит пустыню
обжигающий
солнечный луч.
1988
*
* *
Ни
сучка, ни задоринки,
ни
куста, ни сарая,
ни
подворья, ни дворика –
степь
от края до края.
Ни
мужчины, ни женщины
на
любом расстоянии.
Горизонтом
очерчено
всё
моё мироздание.
Небо
– куполом ситцевым,
в
небе – россыпь монистами.
Невозможно
пресытиться
этим
видом таинственным.
А
в беззвучье, которое
всех
начал первозданнее,
отзвук
древней истории.
...Я
– из Месопотамии.
Одержимый,
невиданный
выхожу
нынче к миру я.
Отрекаюсь
от идолов,
порываю
с кумирами.
И
под небом таинственным,
под
Всевидящим Взором
только
я, только Истина,
только
эти просторы.
1987
ЭЙН-АВДАТ
Здесь
нет шоссе – лишь каменистый тракт.
Машина
скачет, бьётся об уступы.
И,
словно ритмам сатанинским в такт,
глухую
дробь отстукивают зубы.
Ни
деревце не встретится, ни куст –
лишь
камни да песок в степи бесплодной.
Зигзагами
стремительными спуск
уводит
вниз, в жаровню преисподней.
Ещё
зигзаг, ещё один бросок.
Встаёт
отвесность, подступает близко.
И
вдруг дорога, щебень и песок
кончаются
под сенью тамариска.
А
дальше, меж сдвигающихся стен,
ущелье,
словно в доброй старой сказке.
Там
лягушонок, отыскавший тень,
сидит
за камнем на зелёной ряске.
Вода
и зелень, зелень и вода.
Паренье
птиц в голубизне высокой.
И
серны, приходящие сюда,
чтобы
попить и пощипать осоку.
Они
проходят в нескольких шагах.
Движенья
грациозны и небыстры.
Они
не знают, что такое страх,
не
ведают, как громыхает выстрел.
Они
глядят, как человек присел,
прищурился,
со лба откинул чёлку,
как
взвёл затвор, как взял их на прицел,
вдох
задержал и аппаратом щёлкнул.
Они
сюда приходят поглядеть
(как
мы – в музей на редкие полотна)
на
чудом сохранившихся людей –
людей,
не убивающих животных.
1987
ЭЙН-ЕРКАМ
Ключ Эйн–Еркам бьёт в глубине расщелины на дне
большого оврага в Негевской пустыне.
Отвесные борта оврага, уходя вверх, образуют
своими навесами разомкнутый купол,
который завершается небосводом. Отполированные
водой стены и колонны создают
впечатление храма, а тишина на дне давит на
барабанные перепонки до головокружения.
Я езжу туда слушать тишину.
Каменноликий
ключ
Эйн-Еркам –
каких
религий
безвестный
храм?
Взметнуло
небо
свод
на столбах.
Грохочет
немо
апостол
Бах* –
в
тиши расщелин
немой
ручей.
Ищи:
а чей он?
Не-мой-ни-чей.
Глубь
многотонна:
стена,
навес.
Сойди,
Мадонна,
со
дна небес!
Откройся,
Будда!
спустись,
Аллах!
Играй
прелюды
апостол
Бах!
В
тени реликвий
включи
орган,
каменноликий
ключ
Эйн-Еркам!
1987
*Бах по-немецки значит ручей
*
* *
Прилив-отлив,
прилив-отлив,
безбрежность
моря синего –
страна
лимонов и олив,
плантаций
апельсиновых.
Когда
апрель, когда весна,
а
на пороге – лето,
кто
может вынести сполна
такое
буйство цвета!
Тропинка,
вырвавшись за тракт,
бежит
в извивах танца
в
ковристость экзотичных трав,
в
удушливость плантаций.
Но
вдруг заминка, как порог,
и
никуда не деться:
среди
травы у самых ног –
послание
из детства.
Не
наступи, а только тронь,
склонившись
осторожно:
свою
зелёную ладонь
раскинул
подорожник.
Извечный
врачеватель ран –
неброский
и неяркий,
как
ты из полуночных стран
попал
в наш полдень жаркий?
Какие
вехи и межи
прошёл
ты, тихий странник?
Так
прикоснись,
так
приложись
к
моей открытой ране.
Свои
ладошки растопырь,
расположись
просторней
и
около моей тропы
пусти
тугие корни.
1987
*
* *
Лёвушке СЫРКИНУ –
удивительному художнику.
Смена
даты или судьбы...
Дали
зорями рыжими
надвигаются
на сады,
замирают
над крышами.
Над
разливами площадей
всходят
звёзды доверчиво.
У
евреев грядущий день
начинается
с вечера.
В
этом кроется свой резон,
так
завещано дедами:
надо
медленно взять разгон
перед
новым, неведомым,
отодрать
от себя репей,
перемучиться
грёзами,
чтоб
отправиться по тропе
утром
– росами,
в
полдень – грозами.
Над
зарёю взойдёт звезда.
Светят
в вечности свечи нам.
День,
как издавна, как всегда,
начинается
вечером.
1992
СНЕГ В ИЗРАИЛЕ
А
было предвиденье точным –
научным
иль так, наугад,
что
здесь,
в
субтропическом ближневосточном
краю,
будет
вдруг снегопад.
И
будто указано свыше:
из
облака цвета белил
на
плечи, на кроны, балконы и крыши
невиданный
снег повалил.
Такое
представишь едва ли,
расскажут
– попробуй поверь!
А
хлопья всё валят,
а
хлопья всё валят,
засыпав
калитку и дверь,
и
двор, и дворовую утварь,
капоты
и крыши машин,
и
снег, словно белый покров перламутра,
укутал
зелёную ширь.
Лимонно-банановый
пояс!
Лучей
неуёмная прыть!
А
снег возлежит, возлежит, упокоясь,
на
всём, что возможно покрыть!
Смешались
пространство и время.
Такая
кругом кутерьма!
Собаки
приезжих российских евреев
совсем
посходили с ума.
Так
памятен сим домочадцам
минувшего
августа зной.
Теперь
они радостно по снегу мчатся
и
метят его желтизной.
начало февраля 1992
ВЕСНА НА ГОЛАНАХ
Цветёт
миндаль, пылают маки,
ручьи
несутся в водоём.
Земля
выписывает знаки
на
древнем языке своём.
Искрятся
краски, словно гаммы
играет
луч, упав на дно,
где
расшивают великаны
до
горизонта полотно.
Травинка
– толщиною в палец,
цветок
– величиной с кулак,
как
будто радуги распались,
обрызгав
холм, обрыв, овраг.
Их
склоны ливни полоскали,
ласкало
солнце по скуле,
окаменелые
–
как
скалы,
расселись
зайцы на скале.
А
в удалении неярком,
где
исчезает зелень крон,
белоголовым
патриархом
за
дымкой высится Хермон.
Безмерность
– кто её измерит!
Щедра
Дающего рука.
Выходит
из себя Кинерет –
из
берегов на берега.
Пытаясь
вникнуть в сущность знака:
природы
милость или гнев? –
ей
тихо говорю:
– Однако! -
и
замираю, онемев.
22 февраля 1992
МЕТЁТ МЕТЕЛЬ
Опять
метель, опять заносы,
опять
сугробы за стеной,
подбиты
густо сединой
тропических
деревьев косы,
и
снегопада паутина,
и
побелевшие сады,
и
чьи-то первые следы.
Весь
мир – подобье негатива.
Куда
ни глянь – одно и то же:
перемешались
хлябь и твердь.
Наверно,
эту круговерть
придумал
спившийся художник,
не
раздобывший краски, кроме
случайно
найденных белил,
которыми
он забелил
холсты,
белил не экономя.
В
неудержимой заварухе,
не
уставая от забав,
народ
возводит снежных баб
и
растирает снегом руки.
Наш
мир далёк от абсолюта:
метёт
метель – цветёт миндаль.
Заканчивается
февраль.
Лютует
зимний месяц лютый.
Цветёт
миндаль – и не до шуток...
Метёт
метель – в такой-то срок!
А
я ступаю за порог,
укутываюсь
в полушубок,
гляжу,
как ловит снег собака,
завидую,
вздыхаю: "Мне б..." –
и
замираю, онемев
не
в силах вымолвить:
– Однако!
24 февраля 1992
БИРКЕТ-РАМ
Недействующий
кратер,
мерцанье
талых вод,
помост,
сторожка, катер,
рыбак
и небосвод.
А
в отдаленьи чинно
глядят
со всех сторон
скалистые
вершины,
заснеженный
Хермон.
Дорог
крутые ленты
летят
то вверх, то вниз.
Здесь
мифы и легенды
с
былым переплелись.
Убийцы
и пророки
здесь
находили кров,
и
горных рек потоки
текли,
смывая кровь.
В
борьбе противу скверны
сходились
– рать на рать
неверные
неверных
за
веру убивать.
Века
катили мимо
событий
колесо,
решая
судьбы мира –
истории
лицо.
Когда
ж стихали войны,
струилось
по горам
степенно
и спокойно
дыханье
Биркет-Рам:
недействующий
кратер,
мерцанье
талых вод,
помост,
сторожка, катер,
рыбак
и небосвод.
1987
ГОЛАНЫ
Вокруг меня
Голаны –
кружится
голова!
Цветущие
поляны,
зелёная
трава,
и голубое
небо,
и голубая
даль.
Кто на
Голанах не был,
того мне
просто жаль.
Здесь мой
желанный берег
и наивысший
трон –
божественный
Кинерет
и царственный
Хермон,
белесые
туманы,
росистая
трава.
Гляжу я на
Голаны –
кружится
голова!
Пусть
существует в мире
иная красота:
и шири, что
пошире,
и выше высота
–
но если вдруг
устану
иль одолеет
грусть,
я вспомню про
Голаны
и в этот край
вернусь.
26 февраля
1992
РЕАЛИИ
Непевцы исполняют непесни
под немузыку
неинструментов.
Неартисты играют непьесы.
Нефеллини снимают неленты.
Неврачи лечат язвы и раны.
Несолдаты идут в генералы.
На войне
погибают солдаты.
СПИСКИ
ПАВШИХ:
Фамилии
Даты
1992
* * *
Нас
косит рак, мы коченеем в СПИДе,
распался
атом, оскудел озон.
Скажите,
а спокойно ли вы спите?
Виденья
– не тревожат ли ваш сон?
Бельмо
восхода.
Небосклон
ослепнет,
пожухнут
травы, почернеет снег.
Как
проведёт его, свой день последний,
последний
на планете человек?
Он
будет долго-долго шарить взглядом
в
бескрайностях, где дали сожжены.
Он
будет выть, не обнаружив рядом
ни
матери, ни друга, ни жены.
Один
на всей необозримой тверди,
он
вдруг поймёт, что пройдена черта,
что
всё абсурд: любовь и милосердье,
достоинство
и честь и доброта.
Зенит
провиснет, горизонты смяты,
и
мир утратит запах, вкус и цвет.
Бессмысленны
и Лунная соната,
и
муки Данте, и Рембрандта свет.
Погибнет
всё под наслоеньем ила,
под
толщами арктического льда.
Пустынный
шар, летящий в никуда,
одна
большая братская могила.
Нас
косит рак, мы коченеем в СПИДе,
распался
атом, оскудел озон.
Скажите,
а спокойно ли вы спите?
Виденья
– не тревожат ли ваш сон?
1990
ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА
Тащите
меня, роняйте
на
плаху или в костёр.
Ведите
меня, стреляйте,
прицеливаясь
в упор.
Готовьте
крест для распятья.
Хватайтесь
за топоры.
Казните
меня – опять я
вас
выручу до поры.
Ваш
путь венчают победы.
Но
только в один из дней,
как
водится, грянут беды –
и
будет другой еврей.
Оправданно
и законно
его
уведут во мглу...
А
я – повисну иконой
у
вас в переднем углу.
1989
*
* *
Тары-бары
и растабары,
сизый
дым да пустой балдёж.
Я
кайфую под звон гитары –
семиструнная,
растревожь!
На
лету гасит ветер искры,
над
могилой горит звезда,
да
цыганские кони быстры,
да
летит за верстой верста,
свищет
ветер над снежным полем,
и
врывается к нам в пески
столько
радости, столько боли,
столько
смертной земной тоски!
Тары-бары
и растабары,
горький
запах полынь-травы,
рюмка
водки да звон гитары –
семиструнная,
не трави!
Не
зови окунуться в травы
ты,
подвыпивший дуралей!
Мне
поёт баритон картавый
про
отчизну и журавлей,
про
чужбину, чей привкус горек,
про
тоску, что навеки с ним.
А
за окнами – дивный город,
вечный
город Иерусалим.
Тары-бары
и растабары! –
рвётся
голос души живой.
За
аккордом твоей гитары
слышу
пьяный галдёж и вой.
И
не в давности, а сегодня,
в
обозначенный кем-то срок,
подымает
лихую сотню
просвещённый
её пророк.
Стонет
ветер над снежным полем,
и
врывается к нам в пески
столько
страха и столько боли,
столько
смертной земной тоски!
Тары-бары
и растабары!
И
да будет нам как укор
семиструнной
твоей гитары
ностальгический
перебор.
1990
"Dulcis fumus patriae" ("Сладок
дым отечества")
Латинская пословица
"Отечества и дым нам сладок и приятен"
Г.Р.Державин, "Арфа"
"И дым отечества нам сладок и приятен"
А.С.Грибоедов, "Горе от ума"
"Такого отечества
такой дым
Разве уж
настолько приятен?"
В.В.Маяковский, "Хорошо"
Российский
ветер свищет, словно ищет
всех,
кто уже покинул пепелище,
всех,
кто ушёл, следы вморозив в наст.
Российский
ветер, не стучись о рельсы,
твой
дом – не наш, и мы не погорельцы,
не
плачь о нас и не скорби о нас.
Да
ты и сам поймёшь, конечно, вскоре:
свои
у нас и радости, и горе,
не
нашего отечества твой дым.
Уходим
– молчаливы, безответны
в
иные дали, где другие ветры,
где
мы склонимся у своих святынь.
Российский
ветер, будь попутным ветром.
Уже
восток окрасился рассветом,
уже
дошёл, кто первым вышел в путь,
и
даже те, кто медлили – в дороге,
и
даже те, что мешкают – в тревоге,
и
дай им, Бог, расправить шире грудь.
Блеснёт
слеза росинкой незаметной:
мы
завершаем круг тысячелетний
у
древних стен под небом голубым.
И
здесь, уже у очага родного,
мы
вспомним снова и помянем снова
оставленной
отчизны горький дым.
1990
*
* *
Здесь
вечнозелёные листья
и
шумный царит непокой.
Какие
славянские лица!
Акцент
среднерусский какой!
Как
будто с запоя иль с горя,
неведомо
– вброд или вплавь –
в
пески Средиземного моря
дружину
привёл Святослав.
Склонив
над тетрадями выи,
сидят
и тунгус, и калмык,
и
диву даются раввины,
услышав
свой древний язык.
Не
ведал мудрец и предтеча,
талит
раскидав по плечу,
что
будет на этом наречье
долдонить
скуластая чудь.
А
всё-таки – рады-не-рады –
как
будто в бреду иль во сне,
глядят
молодые сефарды
прекрасной
блондинке вослед.
И
пусть никому не в обиду –
известно
плутовке давно:
Мессии
– потомку Давида –
ей
бабушкой стать суждено.
1990
МОЯ СЕМЕЙНАЯ
БАЛЛАДА
В далёком сорок
пятом
настал войне
конец.
Отец мой был
солдатом,
пришёл домой
отец.
Он видел смерть
на фронте,
и, возвратясь с
него,
отец сказал:
– Не троньте
хоть сына моего.
Но в том же
сорок пятом
с наивностью
юнца
хотел я стать
солдатом,
похожим на отца.
Проходит жизнь сквозь годы.
Моих седин не
счесть.
У
матушки-природы
свои законы есть.
Мы жили
неспокойно
в суровой ломке
бурь.
Не обошли нас
войны,
мне выпал Йом
Кипур.
Я был на Южном
фронте,
и, возвратясь с
него,
я прокричал:
– Не троньте
хоть сына моего!
Мой
монолог не выспрен,
в нём верен
каждый звук...
Но вот раздался
выстрел –
раздался выстрел
вдруг.
Нет, я не спорил
с сыном,
не упрекал ни в
чём,
и сын мой
перекинул
рюкзак через
плечо.
В
краю, где глохли недра,
он грязь и кровь
месил.
В тени ливанских
кедров
терял друзей мой
сын.
И, побывав на
фронте
и возвратясь с
него,
мой сын сказал:
– Не троньте
хоть брата
моего.
Вздохнёшь
и не заплачешь
в пылу житейских
гроз.
А вот уже мой
младший –
второй мой сын
подрос.
Лежат его дороги
вдоль тех же
самых вех.
И я гляжу в
тревоге
на сына снизу
вверх.
Его сужденья
строги,
бескомпромиссен взгляд.
И я гляжу в
тревоге
вперёд, а не
назад.
А там, на
горизонте,
опять маячит
смерть...
И я шепчу:
– Не троньте...
И мы кричим:
– Не сметь!
1990
* * *
Не будоражу память грёзами,
не
преступаю свой запрет
на
тот – покинутый берёзовый,
сосновый
и озёрный – бред.
Под
небом Авеля и Каина
у
субтропических морей
иду
извилистою, каменной
тропою
собственной моей,
вдыхаю
жаркую хамсинную
до
тла сжигающую ночь,
забвения
завесу синюю
и
не пытаясь превозмочь.
1990
ЦИКЛЫ
ТРИ
ГРАЦИИ
грация
первая
ОЖИДАНИЕ
А
принца нет.
Морщинки,
складки,
жирок,
где был изящный стан.
А
принца нет.
Утёнок
гадкий
с
годами лебедем не стал.
Никто
не постучится в двери.
Засох
в саду на ветке фрукт.
В
календари она не верит,
и
зеркала упорно врут.
А
годы, как вода в прореху,
стекают
в общий водоём.
А
принца нет.
А
принц проехал
и
постучал в соседний дом.
1988
грация
вторая
ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ
Да,
пенсия у вас вполне приличная.
Пересмотрев
и адреса, и лица,
не
стану отрицать того, что лично я,
пожалуй,
соглашусь на вас жениться.
Да
и квартира: спаленка с салоном
и
кухня с холодильником-гигантом,
и
водочку с огурчиком солёным
подносите
вы очень элегантно.
Ещё
б у вас, pardon, при вашем росте
стянуть
живот, а грудь расслабить в меру –
да
с вами можно хоть в кино, хоть в гости,
хоть
в драмтеатр на новую премьеру!
А
ежели учесть, как жизнь вас била,
и
никуда вам от меня не деться...
Ну,
что стоишь, как старая кобыла!
Расправь
постель и помоги раздеться.
1993
грация
третья
СОТВОРЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
Запалю
лучину,
разведу
костёр.
Я
теперь мужчина –
ловок
и хитёр,
постоянно
грязен,
страшен
и лохмат,
в
каждой третьей фразе
пятистопный
мат.
Буду
пить и грабить –
дик
и одинок.
Для
чего мне Скрябин?
Кто
такой Ван-Гог?
Толстозадых
граций
разопну
на пне.
Лоск
цивилизаций –
это
не по мне.
Вот:
отныне
буду
я
стоять на том.
Но
однажды чудо
посетит
мой дом:
на
закате солнца
на
исходе дня
чистый
донесётся
голос
до меня.
Как
высок и долог
будет
этот звук!..
Я
откину полог,
погляжу
вокруг
и
увижу:
залит
светом
небосвод,
и
перед глазами
женщина
пройдёт.
Погашу
лучину,
затопчу
костёр.
Я
иду – мужчина! –
на
язык остёр,
смою
сеть царапин
с
рук, с лица и ног.
Пусть
играет Скрябин
и
творит Ван-Гог!
Незнакомку
в танце
вмиг
обворожу.
–
Милая, останься, –
ласково
скажу.
1988
и
– ещё одна
* * *
...и
поместили б вас в Версале
или,
быть может, в Фонтенбло –
в
огромном выставочном зале
на
неприступном пьедестале
под
указательным табло,
и
шли бы люди издалече,
чтобы
в музейной пустоте
взглянуть
на вашу грудь и плечи
и
родинку на животе.
А
вы, не зная чувства срама
давно
знакомого другим,
стояли
б холодна, как мрамор,
среди
богов, среди богинь.
Вам
были б суждены столетья
в
тиши дворца – без бурь и гроз,
пока
б я вас не заприметил
и
из-под сводов не унёс.
Не
место вам в чертогах храмов,
в
музейной гулкой пустоте.
Согрею
я холодный мрамор
и
родинку на животе.
Вам
утром птаха защебечет,
вас
влагой напоят ручьи,
податливыми
станут плечи,
и
будут губы горячи.
И
пусть в урочный час мы сгинем
и
превратимся в тлен и прах,
я
женщину, а не богиню,
хочу
держать в своих руках.
1987
ОТЧАЕННЫЕ
СТИХИ
(стихи о
чае)
I
БЫЛ ДОЖДЬ
Настоен чай
на мяте,
на
стёкла каплет дождь.
Хотите –
понимайте,
а не хотите –
что ж!
Играет тихо
Гилельс,
как грезит наяву.
Вы сразу
согласились
на это
rendez-vous.
И вот мы –
с-глазу-на-глаз,
колени-у-колен.
Ужели это
наглость –
легко
сдаваться в плен?
Касаюсь вас
ладонью,
как будто
невзначай,
и что-то там
долдоню
про ароматный
чай.
А вы, в
прищуре узком
как бы
скрывая грусть,
слегка
раскрыли блузку
и обнажили
грудь.
Гляжу я:
неужели? –
переходя на
"ты"...
Ах,
головокруженье!
Ах, приступ
немоты!
Ах, дождь в
разгаре лета!
Ах, этот
летний сад!
Ах, жаль, что
было это
так много лет
назад!
II
Пью чай.
– Хочешь
чаю?.. Не серчай...
– Не
серчаю... Веришь? Верь!
–
Полегчало...
А ты – в
дверь:
– Чао!
III
Сказала:
– Приходи на
чай!
А
может – это невзначай.
А может – это
всё пустяк.
А может – это
просто так.
А может –
накатила грусть.
Всё может
статься,
ну и пусть!
Я с ней почти
что незнаком –
пойду,
побалуюсь чайком.
Решил.
Отправился.
И что ж?
Чай был
воистину хорош!
Наутро, как
бы невзначай,
шепнула:
– Приходи на
чай...
1991–1992
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЭТЮДЫ
МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ
вслед проходящим мимо
женщинам
Проходит
– не другим чета! –
то рядом, то
чуть-чуть поодаль.
Но Бог мне
многого не додал
и где-то в
чём-то обсчитал.
А
женщина прошла уже
и вот уже идёт
другая,
и я опять
изнемогаю
и богохульствую
в душе.
О,
Господи, прости мой срам!
Прости мне
чувственность и зрячесть!
Переполняясь, не
растрачусь,
взирая так по
сторонам.
Прости,
о, Господи, прости.
Ты нас отправил
в бездорожье...
И всё-таки – дай
сил мне, Боже,
до самого конца
пути
мою греховность
донести
(о! – воплоти!
о! – воплоти! –
не только в
мыслях – во плоти,
а это – во сто
крат дороже...)
Прости, о,
Господи, прости.
18
августа 1993 года.
*
* *
Мой голос
тих, мои желанья кротки,
я не люблю
высоких скоростей.
Пошли мне,
Бог, к столу бутылку водки
да юную
любовницу в постель.
Пошли друзей,
весельчаков и ровню,
охотников до
пьянок, баб и драк,
а также, в
дополнение к здоровью,
начальника,
который не дурак.
20 июля
1994 года.
СТАРЫЙ СВОДНИК
Сидит
Господь, тасует карточки,
взирает в них
потусторонне.
Та - замарашка в
старом фартучке,
а эта – в
царственной короне.
Сидит
Господь, листает листики.
В потоке
неземного света
читает Он
характеристики
из ЖКО и
горсовета.
А
там – до самого исподнего,
как может только
спец и дока,
всё для Его, всё
для Господнего
всепроникающего
Ока.
Глядит
Господь.
Глазами старыми
Он только
крепнет год от году
и всё
раскладывает парами
Свою Вселенскую
Колоду.
Дуреем,
словно от угара мы,
Его не поминая
всуе,
а Он
раскладывает парами
и всё тасует,
всё тасует...
3
сентября 1993 года, пятница, выходной день.
НЕЗАТЕЙЛИВАЯ ИСТОРИЯ,
которая произошла со
мной
в ночь с 26 на 27
января 1994 года,
свидетельницей которой
была моя жена,
а уж она-то не даст
соврать.
Я
умирал.
Мне было худо.
Мне ангел
подмигнул с высот.
С Христом,
Аллахом или Буддой –
я знал – мы
встретимся вот-вот.
Я
знал:
пишу последний
опус,
и – принимай
меня, Творец!
Туда выписывают
пропуск
беслатно, но в
один конец.
Я
умирал.
Толпились тени
то милых лиц, то
мерзких рыл.
Я умирал.
Но, тем не мене,
молитву я не
сотворил.
Я
слышу возгласы:
–
Неужто?!
и
шепоток:
–
Мешумед бист!*
Был
дед синагогальный служка,
а
внук – безбожник, атеист!
* "Мешумед бист"- на идише означает
"выкрест,
оборотень, безбожник", т.е. еврей, отвергнутый
общиной за отступничество от веры.
Тебе
бы от грехов от прежних
очиститься,
пред Ним представ!
Ты не смирял,
великий грешник,
ни плоть, ни
душу, ни уста!
Я
от макушки и до пяток
от слов таких
внезапно взмок.
Меж обессиленных
лопаток
прошёлся липкий
холодок.
Я
слушал эти нареканья,
а свет струился
с высоты,
и я почти что в
Зазеркалье
и с Вечностью
уже на "ты".
Вот-вот
предстану пред вратами,
смиренно запалю
свечу…
Сжимает грудь,
горит в гортани,
Шепчу:
– Не надо! Не
хочу! –
и,
вглядываясь в чьи-то лица,
молю:
– Поверь мне, о,
Господь!
Я
научусь Тебе молиться
и
крайнюю обрежу плоть.
Твой верный раб
– Илья-сын-Ноя –
я
прожил век, душою слаб.
Отныне
брошу есть трефное
и в
жизни не взгляну на баб.
Поверь, о,
Господи!
–
Поверю… –
услышал я
спокойный глас.
И вот я у
открытой двери,
и голубой огонь
погас,
и
я уже не умираю,
и слышу сердца
мерный стук.
Гляжу:
от края и до
края
какие женщины
вокруг!
Зажмуриться?!
Да лучше в омут,
в пучину, в
бездну ли, в поток!
Не режьте,
братцы, по живому!
Кому мешает
лоскуток?
Как
жить во святости, о, Боже! –
средь стольких
баб и юных дев?
…Я
знаю, что однажды всё же
меня настигнет
Божий гнев.
Тогда,
представ пред ликом Бога,
переборов
внезапный стыд,
скажу:
– У Твоего
порога,
Всевышний! –
не суди так
строго
за то, что в
рытвинах дорога,
что так вокруг
соблазнов много,
что наша жизнь –
не синагога…
И
Он заплачет и. простит.
1994
*
* *
Не предвижу я
спуска пологого.
Всякий спуск -
это бег, а не шаг.
Покидаю я тесное
логово,
выхожу на
открытый большак.
Мне
не жутко, не страшно, не боязно.
Завершая
отпущенный срок,
поклонюсь я Тебе
ниже пояса
грозный
несуществующий Бог,
и
войду в отворённые двери я,
у последней не
дрогнув межи.
Ты прости мне,
Всевышний, неверие.
Ты за веру меня
накажи.
1989
ОТЦЫ И
ДЕТИ
Тане
Бабушкиной
Фу, какие
Vater'ы и Mutter'ы!
Ах, какие
умненькие дочки!
Набивают
дочки на компьютере
пальчиками
буковки и строчки.
А вослед за
дочками в фарватере
тащатся
родители покорно –
пожилые
Mutter'ы и Vater'ы,
дочкам
надоевшие по горло.
Смотрят детки
матерно и муторно,
вдруг
поняв, насколько невсесилен
у
притихших Vater'ов и Mutter'ов
скудный
мир родительских извилин.
Опуская взоры
виноватые
и
от невменяемости горбясь,
чувствуют
и Mutter'ы, и Vater'ы
вечную
родительскую гордость.
1992
молодо-зелено
I
Не вяжет
ветер кружево,
а просто
сыплет снег.
Я чувствую,
поужинав,
что я
счастливей всех,
что молод я,
что весел я
и что влюблён
чуть-чуть.
Ночь для меня
развесила
кудрявый
Млечный Путь,
сияют ярко
лысины
задумчивых
огней,
и вся тетрадь
исписана
о ней, о ней,
о ней...
1960
II
Люди ездят,
видят, слышат,
кто стихи,
кто прозу пишет,
кто короче,
кто пространно –
про удои,
стройки, станы,
кто про
краны, кто про трубы,
кто про что.
А я – про
губы,
про глаза,
улыбки женщин –
и не больше,
и не меньше.
Потому что
станы, краны
здесь и в
странах иностранных –
весь
подлунный мир так зыбок
без объятий,
глаз,
улыбок...
1968
старческие
страдания
I
Преклонный возраст.
Отмирают клетки.
Болят суставы, горбится спина.
Но всё влекут к себе двадцатилетки
ночами, проведёнными без сна.
Скудеет – то ли кальций, то ли калий,
дрожат непроизвольно кисти рук.
Ровесники уходят в зазеркалье,
их вдовы превращаются в старух.
Приходит день.
(Он, может быть, последний...)
Преодолев симптом паралича,
я, шаркая, тащусь к двадцатилетней
походкой Леонида Ильича,
и, уповая мысленно на чудо,
молитвенно уставясь в потолок,
вдруг вспоминаю:
"Завтра мне к врачу бы,
и сдать мочу – на сахар и белок."
9
августа 1994 года.
II
Какая
печальная истина:
мне скоро
уже шестьдесят,
и осень
шершавыми листьями
старательно
выстелит сад.
Но
все-таки как-то не верится,
что время
уже на постой.
А шарик
все крутится-вертится,
как в
шуточной песенке той.
9 июня 1993
года
* * *
В пустыню или
в заросли,
пожалуй, я б
позарился,
но все
твердят о старости,
и я – из
чувства стадности.
Проходит мимо
девочка,
совсем
проходит рядышком,
а я поглажу
темячко
и жмусь
поближе к бабушкам.
Проходят мимо
бабушки,
глядят в
стекло оконное.
Проходят – ну
и ладушки:
есть у меня
законная.
В пустыню или
в заросли,
пожалуй, я б
позарился,
но все
твердят о старости,
и я – из
чувства стадности.
1988
*
* *
Я
иду – чуть-чуть сутуловатый,
лысоватый
– словно весь из ваты.
Без
конца мои аксессуары
мне
твердят, что их владелец – старый:
где
бугрились мускулы – там складки,
горько
то, что прежде было сладким,
где
была прямая, там кривая,
солнце
греет – да не согревает,
солнце
светит – да линяет краска...
Только это присказка – не сказка.
Ну,
а сказка проплывает рядом.
Ну,
а глазки завлекают взглядом.
Как
идёт, как выставляет ножки! –
будто
бы сошла с суперобложки!
Чувствую,
как тает лет обуза,
и
невольно втягиваю пузо.
Набухают
мускулы под кожей,
и
искрится день – такой погожий!
Здравствуй,
сказка!
Возвращайся,
юность!
Вот
она прошла –
и(!)
– оглянулась(!).
Оглянулась...
посмотрела
странно...
Дескать,
я – не из её романа.
Вот
и всё.
И
сказка отзвучала.
(Можете читать её с начала.)
Старик
Старик, зажав
сидур под мышкою,
шёл к
синагоге вдоль оград,
одолеваемый
одышкою,
как год и век
тому назад.
Я видел, как
старик сутулится,
как крут
изгиб его спины,
а
притаившаяся улица
ещё
досматривала сны.
Я, этих снов
уже не видевший,
спешил, ронял
ему "Шалом!",
он что-то
отвечал на идише,
и я скрывался
за углом.
Теперь я
думаю:
"Да как
же я
не задержался
– хоть на миг!"
Но на счету
минута каждая –
такая жизнь,
прости, старик.
Он, знаю,
нраву был нестрогого
и жил по
сердцу и уму.
Сполна он
отдал Богу Богово,
а я –
неведомо кому.
И всё мне до
сих пор не верится
(вздохну
лишь: Господи, прости!) –
всё,
как вчера: забор и деревце,
и
синагога по пути,
за
городом пустыня рыжая,
над
головою облака –
всё,
как вчера.
Но
не увижу я,
не
встречу больше старика.
Я
всё бегу своей дорогою:
паденья-взлёты,
минус-плюс.
Автобус
мой за синагогою.
Прости,
старик, я тороплюсь.
3 июня 1994 года.
ОТВЕТ ОППОНЕНТУ
без желания
излечить его от его ностальгии,
но с настойчивой просьбой
не навязывать её мне,
потому что
6
декабря 1971 года
после
35-летнего пребывания на чужбине,
покрытой
перелесками и лесами,
морями,
реками и озёрами,
говорившей
со мной на языке Пушкина и Пастернака,
одарившей
меня детством и юностью,
подарившей
первую любовь и последнее "прощай"
и
оставшейся в моей благодарной памяти
самой
прекрасной чужбиной на свете,
я
приземлился на родной земле,
к
которой стремились десятки поколений моих предков,
ежедневно,
в течение тысячелетий, повторявших
одно
и то же заклинание:
"В будущем году
в Иерусалиме".
Родина
заговорила со мной
на
непонятном гортанном языке
пастухов,
воинов и пророков
и великой Книги Книг Библии.
Она
опалила меня
безжалостным
жаром пустыни
и
ничего не пообещала,
кроме
чувства родного дома.
Нисколечки
не тоскую,
спустившись
на землю с неба.
Назначил
мне Бог такую
страну
– без берёз и снега.
С
какого ни гляну бока –
а
верно: по Сеньке шапка.
Здесь
очень, конечно, жарко –
что
сделаешь: воля Бога.
Известно:
к такой пустыне
привычны
одни верблюды.
Но
здесь поселились люди
и
корни свои пустили.
Заботливыми
руками
и
пашут они, и сеют,
считая
землёй своею
все
эти пески и камни,
крутые
изломы линий,
библейский
покой равнины.
Ведь
предки мои – раввины –
за
эти края молились.
Скажу,
не снижая тона,
что
выбрал я путь не слепо.
Мне
чувство родного дома
дороже
любого снега.
Забуду
ль, как он, подталый,
ручьями
клокочет с кручи!
Но
слышу я зов картавый
кровиночки,
сабры-внучки.
Уносят
нас годы-кони
к
какому ни есть пределу.
Здесь
крона моя и корни,
приют
и душе, и телу.
Здесь
стены мои и кровля –
я
чувствую это кожей.
Вот
мимо идёт прохожий –
он
мне и родня, и ровня.
Здесь
каждая мать –
мадонна.
Здесь
воины
все
мужчины.
Здесь
ветры родного дома
целуют
мои морщины.
8-9 июля 1993 года.
Беэр-Шева
(Негев) – Кацрин (Голаны).
К восьмому
марта
Ни обругать,
послав к такой-то матери,
ни поглядеть
надменно с высоты. –
Вот только б
не забыть купить цветы
и нежно
потрепать её по мякоти,
и, приложив
особое старание,
радушно
улыбнуться за версту,
простить ей
все её морщинки ранние
и позднюю
заметить красоту,
вручить
колечко или нитку жемчуга –
кто может
знать: на счастье ль, на беду.
И вдруг она
поймёт, что даже женщина
бывает
человеком раз в году,
поделится
своей бедой-кручиною,
от всей души
подарит томный взгляд,
и ты себя
почувствуешь мужчиною,
как это было
ровно год назад.
Промчится
ночь.
И вот уже
девятое.
И, словно в
сказке о добре и зле,
она себя
признает виноватою
во всём, что
происходит на земле.
Завянут
лепестки на белой скатерти,
поблекнут
ожерелье и кольцо,
и можно,
прямо глядя ей в лицо,
опять её
послать – всё к той же матери.
7 марта 1994 года.
*
* *
Вике
Ещё не рушатся
дома,
ещё
я жив и цел,
но
сын твой вскинул автомат
и
щурится в прицел.
Он,
не мигая, взвёл затвор –
патрон
уже в стволе.
Он
не крадётся, словно вор,
припав
к сырой земле.
Ко
мне идёт он в полный рост,
прижав
к плечу приклад.
Расчёт
его предельно прост,
и
чёрт ему не брат.
Твой
карапуз, конечно, мал,
бесхитростен
и смел.
А
я хочу, чтоб он сломал
свой
оружейный арсенал
и
не глядел в прицел,
чтобы
сбылись его мечты,
но,
чтобы, дай-то Бог,
он
приносил тебе цветы,
а
не часы тревог,
чтоб
он листал стихов тома,
смеялся
бы лучу
и
прижимал не автомат,
а
женщину к плечу.
26 марта 1994 года.
Рассказ старого Одисея
"На
глухом полустанке,
коль
попутает бес,
трахну
бабу по пьянке
под
покровом небес.
Иль
в державной столице
среди
сводчатых стен
полежу
с белолицей –
и
не вспомню затем.
Ах,
гречанки-морячки –
пыл
румян, ярость губ!
Подходи,
коли зрячий,
коли
пьян да не глуп!
Эй,
вы, клеточки-шашки –
дорогое
такси,
пересмешечки,
шашни,
поцелуй,
пососи!
Чесноком
да укропом
пахнет
свежий рассол.
Погрусти,
Пенелопа,
Одисей
не пришёл.
То
постель, то застолье –
пей,
гуляй, кореша!
...Но
однажды застонет
и
заплачет душа.
Потонул
в пене локон,
расползлась
простыня.
Но
прошла Пенелопа,
не
заметив меня.
Рухну,
оземь ударясь,
как
бревно-истукан.
Одиночество,
старость,
недопитый
стакан..."
Спорить
с выпившим глупо,
если
боль неспроста.
Наша
дружная группа
занимает
места,
и
автобус усталый
набирает
разбег.
Гладь
залива и скалы
да
подвыпивший грек.
27 февраля 1994 года.
Ветер к вечеру круче...
I
Ребро Адама
Искал:
ни здесь оно,
ни там оно –
и впрямь изъял
его Господь.
Но вот гляжу:
ребро Адамово –
воистину от
плоти плоть!
Я назову её
по имени,
скажу:
– Откликнись,
будь добра.
Пойми,
насколько я ранимее
без одного –
того – ребра...
Явленье, в
общем-то, не редкое:
в душе – то
молния, то гром,
а я с распахнутою
клеткою
стою пред
собственным ребром.
5 марта
1994 года.
II
Опять
вернуться в даль,
где
качаются
холмы,
где музыка
Вивальди,
где облака и
мы,
где время,
ставя точки,
течёт и не
течёт,
где в синем
ободочке
качается
зрачок.
Оглядываюсь: где
ж ты?
откликнись,
отзовись!
Пусть на краю
надежды
парит над
нами высь,
пусть музыка
Вивальди
струится на
холмы,
где
бесконечна даль,
где
лишь облака и
мы.
26 марта
1994 года.
III
Ветер к
вечеру круче.
Ночь от снега
бела.
–
Пошевеливай, кучер!
Натяни удила!
Сапоги мои с
хрустом,
без царя
голова.
Нам как
истинно русским
в жизни всё
трын-трава.
Я укутаю в
шубы,
унесу на
мороз
и, горячую, в
губы
зацелую
взасос.
Синяками
раскрашу
шею, плечи и
грудь.
Мчатся кони.
Знай наших! –
не
какие-нибудь...
Пусть седой я
и старый,
ты свежа и
юна.
Мы отправимся
к Яру
и закажем
вина.
Всё
закружится в гаме,
будут вина и
снедь,
будут песни
цыгане
нам цыганские
петь.
Пролетит – не
заметим –
эта ночь до
утра.
Я тебя на
рассвете
уведу в
номера.
И – ни бора,
ни Яра,
ни огня, ни
коня,
ни ночного
угара –
только ты,
только я.
Мир
заверчен-закручен.
Что там: ночь
или день?
–
Пошевеливай, кучер!
Подавай
лошадей! –
Только кучер
лениво
в полудрёме
сопит.
Только
катится мимо
за окном
грузовик.
Только
розовый всполох
прорывается в
синь,
и на сопках
на голых
полыхает
хамсин.
Ни цыган, ни
гитары
и ни снежной
трухи,
лишь в
извилинах старых
копошатся
стихи.
3 апреля 1994 года.
*
* *
Раскрыты
окна.
Птичий
гам и спор там.
Но
я сосредоточен, глух и нем.
По
вечерам я занимаюсь спортом,
слежу
за весом и почти не ем.
Я
буду делать так зимой и летом,
не
пропустив ни вечера, ни дня.
Я
похудею,
стану
я атлетом,
чтоб
женщины смотрели на меня.
Я
был в моём решении свободен,
когда
взвалил на плечи этот труд.
Я
стану длинноног и узкобёдер,
а
также строен и широкогруд.
А
чтоб одна достойнейшая lady
решила,
что теперь я ей под стать,
перелистав
тома энциклопедий,
я
стану эрудицией блистать.
Чтоб
избежать упрёков или жалоб,
хочу
снискать расположенье муз.
Мне
в банке счёт открыть не помешало б,
и
этим я впоследствии займусь.
1987
*
* *
Он
всего щенок – и только,
непородистый
щенок:
нос,
два глаза, хвостик тонкий,
сердца
стук да шерсти клок.
Кто-то
взял, да бросил сразу.
Кто-то
нёс, да не донёс.
И
блестят в траве два глаза
да
чернеет мокрый нос.
Прокричит
ночная птица:
то
ль угроза, то ли весть.
Хорошо
б воды напиться
и
чего-нибудь поесть.
Над
поляной ветки гнутся.
В
небе месяц молодой.
Очень
хочется уткнуться
мордой
в тёплую ладонь.
Шелестит
травою ветер.
Гасят
окна этажи.
Очень
хочется на свете
хоть
немножечко пожить.
Меж
кустов прокрался кромкой
и
забился в уголок –
нос,
два глаза, хвостик тонкий,
сердца
стук да шерсти клок.
1988