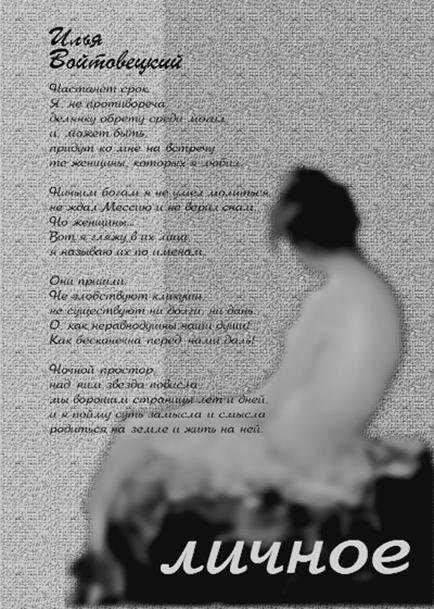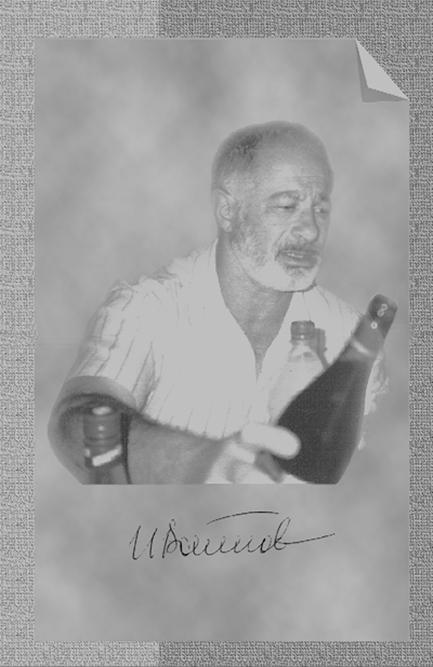
вот такое вступление
Перед моими глазами, на экране компьютера, только
что набранная книга. В ней стихи, написанные на протяжении последних десяти
лет. Некоторые взяты из моих прежних сборников, многие нигде ещё не
публиковались.
Мне 63
года. Может статься, что эта книга – последняя. Такое могло случиться с любой
из предыдущих. Значит, мне повезло ещё на одну. Когда-нибудь это везение кончится.
Книги,
даже очень хорошие, редко переживают авторов. Они, как правило, остаются в
семейных архивах, и потомки, с понятной гордостью или с не менее понятной
стыдливостью, иногда раскрывают их и перелистывают.
Мне
не угрожает даже такая память. Мои сыновья умеют бегло объясняться по-русски,
но русских книг почти не читают. Малолетние внучки и внук щебечут на забавной
смеси исковерканного нерусского со свободным картавым ивритом. Язык Книги
книг стал для них родным. Не очень верится, что душевные излияния предка будут
им доступны и интересны. Тут ниточка обрывается.
Для
чего и для кого я сочинял стихи? – Естественно, для себя.
Для
чего и для кого я издаю их? – Не знаю...
Что
дальше? – Буду жить, пока живётся. Буду дышать, пока дышится. Буду любить, пока
любится. Буду писать, пока пишется.
![]()
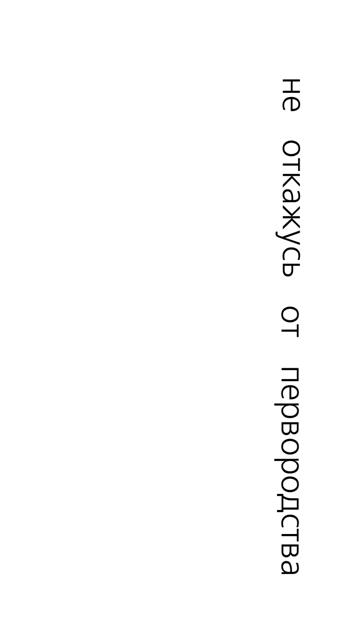
личное
Дорога Богом мне намечена –
ни коротка, ни далека.
Ну, что Россия и Неметчина! –
берёзы, реки да луга.
В чужих просторах мне не праздновать,
в чужие не ходить моря.
От Средиземного до Красного
полоска узкая моя.
Залогом, что чего-то стою я –
хотя бы на единый миг,
моя Земля,
моя История
и Книга книг.
* * *
На свете жили короли,
по правде говоря,
и уходили корабли
в далёкие моря.
Земля вертелась, как волчок,
и ночь сменяла день.
Трещал за печкою сверчок,
незло дразня людей.
Сменялся год, сменялся век,
новинок не суля.
Но вот родился человек –
им оказался я.
С той самой ночи или дня,
с той ночи или дня
всё в мире ново для меня,
и это – для меня:
горит звезда, цветёт миндаль,
враждуют короли,
и в неизведанную даль
уходят корабли.
* * *
Я родился на исходе ночи,
крикнул в первый раз, что было мочи,
и – пока живу,
с тех самых пор.
Я пришёл без имени, без скарба,
в тот момент не звякнула литавра.
Падал снег на крышу, на забор.
Нет ни крыши той и ни забора.
Буду жить до точки, до упора
и уйду, и растворюсь во мгле,
не оставлю ни следа, ни тени.
Лишь одно моё приобретенье –
имя.
С ним я прожил на земле.
* * *
Ступенька-ступенька-ступенька-ступень-
ко мне устремляются изо дня в день.
Я снизу смотрю в поднебесную высь –
смотрю и взываю:
– Ау! Отзовись!..
А там, наверху, подперев облака,
стою я, не в силах дождаться, пока
стремящийся вверх через свет, через тьму,
смогу я подняться к себе самому.
Проносится ночь, начинается день.
ступень...
ступенька...
ступенька...
ступенька...
моя история...
моя география...
моя биография...
я сам...
Мой сын бродил по Англии и Франции
и в
Райксмузеум ездил в Амстердам,
с
какими-то лохматыми засранцами
гулял
по иноземным городам,
он спикает, немного даже шпрехает,
понадобится
– может и парле.
А я
– по-русски, да и то с огрехами.
Бывал
в Рязани, Туле и Орле.
Европой для меня была Эстония –
командировка
сроком на три дня. –
Другие
–
география,
история,
да и судьба другая у меня.
Я помню, как, вдыхая воздух Таллинна,
вдруг понял: есть иные берега.
А мы-то в детстве – поглядеть на Сталина
пускались от родителей в бега.
Проводники на нас глазели кобрами,
тяжёлым кулачищем мент грозил,
а со стены взирал глазами добрыми
усатый и осанистый грузин.
Но я ушёл – на все четыре стороны,
и груз мой не всегда был по плечу.
Моею географией, историей,
судьбой –
ни с кем делиться не хочу.
* * *
Я благодарен земле ли, Небу ли,
пересеченью ль небесных дуг –
за жизнь, за были мои и небыли,
за вдох и выдох и сердца стук,
что дух нетлен и что тело бренно,
за пастернаковских двадцать строк,
за звуки Моцарта и Шопена,
за то что жил на земле Ван-Гог,
за то что в грёзах моих и бденьях
не изменил себе ни на миг,
ещё за то что не нажил денег,
хоть не отказывался от них.
Так не бывало, чтоб выпить не с кем.
Летя то в пропасть, то к небесам,
на временном на моём отрезке
я жил, любил и стихи писал,
и благодарен земле ли, Небу ли,
пересеченью ль небесных дуг –
за жизнь, за были мои и небыли,
за вдох и выдох и сердца стук.
фантазия
Я затаюсь, Судьбу подслушаю
и зафиксирую в тетрадке,
что шторм прошёл,
уже на суше я,
дышу –
и, значит, всё в порядке.
Но говорит Судьба намёками
примет, загадок, гороскопов
и водит всё вокруг да около,
вдали от кладов и раскопок.
А, может, вовсе не на суше я
и не в Европе, и не в Азии?
А, может, всё, на свете сущее,
лишь плод моей больной фантазии? –
семья и дом, и дверь с подковою,
и чек от сумрачной кассирши,
и эти, очень бестолковые,
придуманные мною вирши,
и сам я
с животом и лысиной –
Судьбы неотвратимой метой, –
со складкою глубокомысленной,
с фантазией забавной этой...
полнолуние
Ах, капустка, огурчик с хрустом!
Водку пью и теряю лоск.
Размечтался о чём-то грустном
мой слегка захмелевший мозг.
Пары шастают, припарадясь.
Я гляжу на них, ротозей.
Мне сегодня совсем не в радость
популярный напиток сей.
Ну, а всё-таки по привычке
наполняю своё нутро.
Мне дождаться бы электрички
да успеть ещё на метро.
Слышу грохот составов скорых,
ветра шёпот да шелест крон,
и горланит Филипп Киркоров
надо мной с четырёх сторон.
Слышу я, как мои соседи
матерятся в ночную муть.
Полнолуние цвета меди
не позволит мне, блин, заснуть.
А под утро окину дальний
вид пустыни без берегов.
Вдоль дороги шагают пальмы
и гортанно поёт Аргов*.
Вертит бёдрами пыльный глобус.
Гладят ветры зелёный ворс.
Двухэтажный экспресс-автобус
увезёт меня за сто вёрст.
Крепнет ветер к плохой погоде.
Он прошепчет мне на лету:
– Электрички сюда не ходят,
и метро не прорыли тут.
И под эти порывы ветра
просигналит моя звезда:
– Перепутались части света
и напитки, и поезда...
Мы запутались в бездорожье.
Надо мною висит, пьяна,
мне насмешливо корча рожи,
заблудившаяся луна.
Ах, капустка, огурчик с хрустом!
Тихо ветер шуршит листвой.
Я вздыхаю о чём-то грустном
над бутылкою над пустой.
*Зоар Аргов – израильский
исполнитель восточных песен.
ностальгия под
анисовку
Налил и выпил – вот как! –
и капельку слизнул.
...Анисовая водка
навеяла слезу.
Маслины – для закуски –
и грусть восточных глаз.
Аристократ-то русский,
да сослан на Кавказ.
Сижу, набычив шею,
катаю в горле ком,
считаю Беэр-Шеву
кавказским городком
и коротаю время
до Страшного Суда.
У русского еврея
завидная судьба:
анисовая водка
да чистая слеза.
Налил и выпил – вот как!
И – капельку слизал.
* * *
Мне снятся телефонные звонки,
мне снятся паровозные гудки,
мне снится уплывающий вокзал,
мне снится: я чего-то не сказал.
И я, не просыпаясь, ноябрю
о чём-то торопливо говорю,
я трубку телефонную беру –
к добру всё это или не к добру?
А скорый поезд взял уже разбег
туда, где белый свет и белый снег,
туда, где чёрный снег и чёрный свет –
где нет меня,
где нет меня,
где нет...
Но бегу вслед как весть или как месть:
– Не возражай,
ты есть!
ты есть!
ты есть!..
И в дальний путь уходят поезда,
и длится ночь,
и падает звезда,
и тянется за той звездою след
длиною в двадцать пять прошедших лет.
стихи из
повести
«суп с котом»
Покидаю обжитое логово,
и, ступить готовясь на большак,
я стою у спуска непологого,
силюсь –
с бега перейти на шаг.
Мне не страшно,
мне совсем не боязно
вдаль глядеть с последнего крыльца.
Поклонюсь Тебе я ниже пояса,
не сумев поверить до конца,
и войду в неведомые двери я,
окунусь в небытие и тишь...
Ты, конечно, мне простишь Неверие.
Ты мне ложной веры не простишь.
полночная молитва и даже если дождь или быть может снег и даже если смех или быть может дрожь и даже если враг или быть может друг и даже если вдруг или совсем никак на всех семи ветрах у всех семи дорог да не оставит Бог
дожить бы до утра
* * *
Памяти Д.Н.Монетовой.
Замираю над каждым кадром я,
сердце трепетно стук-постук.
Дорогая Дарья Никандровна,
сядем рядышком на сундук.
Тьма ночная,
пространство комкая,
уползает за образа,
тихо тронув печальной кромкою
Богородицыны глаза.
Развевается над лампадою
золотого тисненья прядь.
Я взлетаю и снова падаю
и парю над землёй опять.
Я не сплю, дорогая, полноте!
Эту ночь проведя без сна,
вижу: толпы бредут по комнате
из изгнанья
через Синай.
Мне, мальцу, и добавить нечего,
но пойму я когда-нибудь:
в этом месте, Судьбой отмеченном,
для меня вы избрали путь.
И нежданно совсем, негаданно
вышел я на заветный круг.
Дорогая Дарья Никандровна,
сядем рядышком на сундук.
* * *
Я прожил жизнь,
и жил не просто,
удел такой – пойди сыщи!
Дано мне право первородства
не за похлёбку, не за щи.
Не награждаем, не обласкан,
я слышал окрики:
– Не смей!
Судьба слагалась, словно сказка,
а в ней – чем дальше, тем страшней.
Я был повержен и унижен,
глотая пыль чужих дорог.
Мой Бог на этом свете выжил,
поскольку я Его сберёг.
...В пустыне женщины рожали.
...Шёл долгий путь и вкось, и вкривь.
Мне Бог вручил свои скрижали,
к бессмертию приговорив.
Всё помню:
пламя выше роста,
Хорив* священный,
утро,
куст...
НЕ ОТКАЖУСЬ
ОТ ПЕРВОРОДСТВА
И ОТ СЕБЯ
НЕ ОТРЕКУСЬ.
* Хорив – ещё одно библейское название горы Синай.
Там, из пылающего куста терновника, Бог обратился
к Моисею, повелев ему вывести народ Израиля из рабства,
в котором он находился в земле Египетской.
2 марта 1953 года*
Я помню этот день и этот год,
я помню скорбный голос Левитана,
я помню: мама усмехнулась странно
и тихо обронила: «данкен Гот»**
На всей планете скорбно выл эфир,
над крышами Шопен кружил упрямо.
Как заблуждался безутешный мир!..
А «данкен Гот» сказала только мама.
* В этот день по радио сообщили о болезни Сталина.
** «данкен Гот» (идиш) «благодарение Богу».
попутчики
Они идут – полковник КГБ
с подследственным.
Идут почти что в ногу.
В отчёте не укажут, как и где.
Идут себе вдвоём – и слава Б-гу.
Они шагают рядом в полный рост
и кроют власть, и нет в глазах испуга,
и знают, что вопрос не есть допрос,
и цели нет – перехитрить друг друга,
от страха руки-ноги не свело,
и желваками не играет злоба.
Они идут. Недавно рассвело,
день будет жарким, это знают оба.
Они ведут негромкий разговор,
у них воспоминаний общих много.
За поворотом кончился забор.
А вот и, слава Б-гу, синагога.
утренняя прогулка
Я повзрослел и полысел,
но, в ожидании восхода,
люблю утрами по росе
гулять в любое время года.
Мне по душе собачий лай
и ветра свист, и грома рокот.
Я капли оботру с чела,
чтоб пальцами росу потрогать.
Я ненароком занесён
в огромный мир добра и света.
Стоит задумчивый осёл –
он тоже думает про это.
Мы с ним, естественно, родня
и, может, станем корешами.
Он молча смотрит на меня,
жуёт траву, прядёт ушами.
Вдруг, как архангел на трубе,
он протрубил и зыркнул дико.
Вспорхнул с говёшки воробей,
напуганный ослиным криком.
В траве запутались лучи –
ничто природе не в убыток.
Вот кто-то радио включил.
Читают имена убитых.
старик
Старик, зажав сидур подмышкою,
шёл к синагоге вдоль оград,
одолеваемый одышкою,
как год и век тому назад.
Я видел, как старик сутулится,
как крут изгиб его спины,
а притаившаяся улица
ещё досматривала сны.
Я, этих снов уже не видевший,
спешил, ронял ему «Шалом!»,
он что-то отвечал на идише,
и я скрывался за углом.
Теперь я думаю:
«Да как же я
не задержался – хоть на миг!»
Но на счету минута каждая –
такая жизнь, прости, старик.
Он, знаю, нраву был нестрогого
и жил по сердцу и уму.
Сполна он отдал Богу Богово,
а я – неведомо кому.
И всё мне до сих пор не верится
(вздохну лишь: Господи, прости!) –
всё, как вчера: забор и деревце,
и синагога по пути,
за городом пустыня рыжая,
над головою облака –
всё, как вчера.
Но не увижу я,
не встречу больше старика.
Я всё бегу своей дорогою:
паденья-взлёты, минус-плюс.
Автобус мой за синагогою.
Прости, старик, я тороплюсь.
уличный музыкант
Мой приятель Серёга Вайс,
лабух самый обыкновенный,
на баяне играет вальс,
нам знакомый с поры военной.
Он растягивает меха,
нажимает за кнопкой кнопку,
улыбаясь порой слегка
тем, кто мелочь кладёт в коробку.
Он играет “Осенний сон“
и басами вздыхает сипло.
Брошу шекель, услышу звон
и приветливое «спасибо».
Мой приятель Серёга Вайс,
над баяном своим ссутулясь,
развлекает игрою вас
на скрещенье крикливых улиц.
Не роняя зазря словес,
кинет пальцы от края к краю.
«Я Огинского “Полонез“, –
говорит он, – сейчас сыграю.»
Он кивает мне:
«Не тужи!
Заработанный хлеб не горек.»
Завыванья автомашин
“Полонезу“ недружно вторят.
Мой приятель Серёга Вайс,
атрибут городского центра!
...Помню, как партитуры вязь
он просматривал в день концерта.
В беге канувших зим и лет
долгий праздник не прерывался:
высшей ценностью был билет
на концерт дирижёра Вайса.
Над пюпитрами вознесён,
он парил над притихшим залом
и дарил не осенний сон –
грёзы зимние* навевал он.
Мой приятель Серёга Вайс...
Повздыхает баян плаксиво,
скажет слушатель:
– Высший класс! –
и ответит Сергей:
– Спасибо.
*“Осенний сон“ – старинный русский вальс. “Зимние
грёзы“ – название Первой симфонии П.И.Чайковского.
кармель
вариации
И сказано: –
«Свет народам придёт с вершины Кармель.»
Когда русские
князья возводили на вершинах холмов укрепления, говорили они:
— Отсель светъ народамъ приходить будетъ!
— Вотъ онъ, нашъ Кармель!
Отсюда – КРЕМЛЬ.
I
Живу среди природы,
гуляю взад-вперёд,
совсем белобородый –
красавец ли?
урод? –
сосу себе, гуляя,
конфету «карамель».
Вдали от стен Кремля я
взираю на Кармель.
За горным за отрогом
лежит морской залив,
а я обласкан Богом
среди седых олив.
В моём весёлом теле
как будто бродит хмель.
Неужто в самом деле –
передо мной Кармель?!
В лучах макушку грею,
не горбится спина.
Ну, на фига еврею
Кремлёвская стена!
II
Живу, брожу среди природы,
прогуливаюсь взад-вперёд,
уже совсем белобородый –
красавец?
может быть – урод?
Брожу,
сосу себе, гуляя,
совсем простую карамель.
Вдали от грозных стен Кремля я
взираю молча на Кармель.
За горным за крутым отрогом
раскинулся морской залив,
а я...
а я обласкан Богом
среди божественных олив.
Я чувствую, как бродит в теле
неведомый доселе хмель.
Неужто это в самом деле –
передо мной Кармель?
Кармель...
Стою,
в лучах макушку грею,
ничуть не горбится спина.
А в мыслях:
на фига еврею
нужна Кремлёвская стена!
III
Коренной северянин,
брожу среди южной природы,
я дышу, наслаждаюсь, гуляю себе взад-вперёд.
Я немолод уже,
седовласый и белобородый, –
быть хотел бы красавцем.
На деле, быть может, урод.
Полюбивший субтропики,
тихо сосу я, гуляя,
словно в детстве далёком,
простую совсем карамель.
Так вот жизнь повернулась:
теперь далеко от Кремля я.
Так вот в жизни случилось:
взираю теперь на Кармель.
Я стою и гляжу на Кармель.
А за горным отрогом
в обрамленье зелёном
раскинулся Хайфский залив.
Лепота да и только!
Обласкан приветливым Богом,
я стою средь божественных
и серебристых олив.
Я пришёл навсегда,
и в моём пробудившемся теле
томно бродит и бродит
доселе неведомый хмель,
и не верится мне:
да неужто и впрямь, в самом деле
предо мною – Кармель?
Предо мною и вправду – Кармель?
Я, облитый лучами,
макушку задумчиво грею,
не склонил головы,
и не горбится вовсе спина.
И естественна мысль:
на фига пожилому еврею
снег вчерашний,
чужая разруха,
и Кремль,
и стена...
сотворение мира
Лёве
СЫРКИНУ,
сотворившему на древней земле
Израиля
во граде библейском
Содоме
воду и огнь и райские
кущи,
цветущие во свете дня и во
тьме нщи,
познавшему муки и радость
Творчества
и подарившему плоды Его
нам.
Творец потёр задумчиво глаза,
достал очки из старенького ранца,
не торопясь поднялся на леса
и оглядел вокруг себя пространство.
Был первый день
(точнее – день один.)
На глаз прикинув фронт работы на день,
Творец по стройплощадке походил
и шевелюру пятернёй погладил –
вернее, место, где она росла,
когда он юным был и неумелым...
«Пора, – подумал Он, – заняться делом.»
Потёр ладони.
Капнула роса.
Творец творил.
Пусть будут Хлябь и Твердь,
пусть будут Свет и Тьма,
Луна и Солнце,
Восторг и Огорченье,
Жизнь и Смерть,
и пусть всё это в Вечность понесётся.
Творец творит.
Вселенная в бреду...
плывёт туман... струится лучик тонкий...
Я подойду – и постою в сторонке.
Я постою в сторонке –
и уйду.
* * *
Марку ШЕХТМАНУ
Где взял художник эти краски
и эту точность ремесла,
чтоб явь свободно, без опаски
себя на холст перенесла?
Тут всё не блёкло и не серо:
и солнце – в масть, и небо – в масть,
а неизменность глазомера
не позволяет в крайность впасть.
Но если крайность, так уж крайность,
гротеск изломов, линий, черт –
так, чтоб взорвался грунт, изранясь,
и чтобы вздыбился мольберт.
Бугор горбат, проулок тесен
и мудр лукавый бомж-старик,
и всё ещё пылит в Одессе
неистребимый Беня Крик.
Сидим, потягиваем виски
и поедаем натюрморт.
Вокруг пустыня, тамариски,
верблюд семитски длинноморд,
и в продолженье этой сини –
не наважденье и не сон –
в окне, как в раме: край пустыни,
холмы плывут за горизонт,
слегка накрапывает дождик,
строенья рвутся в высоту...
Встаю, прощаюсь.
А художник
спешит к холсту.
* * *
Саше ОКУНЮ,
соорудившему
“Престол Всевышнего“
с
живою рыбкою золотою.
Однажды золотою рыбкой
художник Бога одарил.
Вставал рассвет полоской зыбкой.
Туман стелился меж стропил.
Всевышний, сидя на Престоле,
вершил Свой Суд на Небесах:
читал доносы в Протоколе,
ворчал под Нос: «Mein Gott! Доколе?»,
икая, хохотал до колик
и двигал Гирьки на Весах.
А души (Боже, что за души!)
сбивались кучно в уголки
и крали – кто флакончик туши,
кто разноцветные мелки,
бранились долгими часами
пока Господь водил Перстом,
на стенах глупости писали,
загадив ими весь Престол.
Очнувшись на исходе ночи,
Всевышний встал (не с той Ноги),
свершил Молитву («Авва Отче!»),
вздохнул, устало вскинул Очи,
воскликнул:
– К чёрту! Нету мочи!
взмолился:
– Рыбка, помоги! –
и та, без слов пустопорожних,
сказала ласково Ему:
– Не дрейфь, старик, придёт Художник,
Он разберётся, что к чему.
камни
Живём, гневя друг друга или теша,
на мир взираем из оконных рам.
Но как постичь, что эти камни – те же:
по ним ступал когда-то Авраам!
Брели стада, и лаяли собаки,
и выгорал от зноя небосвод,
и длинные холщовые рубахи
дубели на плечах, вбирая пот.
Ни ручейка, и пересохли речки,
вокруг пустыня – камни да пески,
и пастухи, лишившись дара речи,
вздымают молча к небу кулаки.
...Бредут пришельцы. Нет ни карт, ни лоций,
но Кто-то Указующим Перстом
направил их, и у семи колодцев
они себе нашли и кров, и стол.
Брели евреи долгими веками,
кровь отирая с незаживших ран...
И я дошёл.
И вот – гляжу на камни:
на них ступал когда-то Авраам.
* * *
Этим вечером, как вчера,
или, может быть, чуть иначе
шум доносится со двора
и взлетает над крышей мячик.
Слышу зов:
«Возвращайся, Вась!»
И от будочки автомата
бесконечно родная вязь
бесконечно родного мата.
За забором собачий лай,
а на маленькой ржавой дверце
надпись:
«Надя + Николай»
со стрелою, пронзившей сердце.
Из соседнего из двора
перекличкою или эхом
“Подмосковные вечера“
и “Эвейну шалом алейхем“.
Мне аллея насквозь видна
перспективою пальм и лестниц,
неба южного глубина,
опрокинутый навзничь месяц,
звёзд бесчисленность,
и под ней
разгорается, хорошея,
переливом ночных огней
Авраамов град Беэр-Шева.
Под ногами скрипит песок.
Навевает мне грусть олива.
Дело тонкое – наш Восток.
Сотня вёрст до Иерусалима.
* * *
Моя четырёхлетняя сабра-внучка
Талька
все три дня нашего пребывания
на Голанах и в Галилее
рассказывала о листопаде,
о жёлтых листьях.
»«Алей
шалехет» –
нежно выговаривала она на иврите
новое словосочетание, –
«опавшие листья».
Наш пейзаж – то лес, то вади,
аист реет в вышине.
Внучка всё – о листопаде.
Прожужжала уши мне!
Среди зелени и зноя,
высоты и синевы
внучка бредит желтизною
и шершавостью листвы.
Я поёжился от ветра,
дождь стряхнул с седых волос
и оставил без ответа
мне не заданный вопрос.
* * *
22 мая
1997 года в 2 часа 30 минут пополудни
у моего сына родился сын Шахар.
То ль от сырости, то ль от зуда,
от других ли каких-то штук –
непонятно, друзья, откуда
у меня появился внук.
Мне пред парнем гордиться нечем.
Справедливо и поделом
он Судьбою уже отмечен
и отличием наделён.
Он смеётся и тянет ручки,
вздыбив реденький хохолок.
Отличается он от внучки,
тем что писает в потолок.
А в глазах и печаль, и горесть,
и совсем беспричинный смех,
и меня распирает гордость
за бесспорный за мой успех.
Дар Господень лежит, бесценен,
дышит, радуется, живёт,
и прибор на меня нацелен,
и струя зажурчит вот-вот.
*
* *
Когда – не знаю, но когда-нибудь,
забыв, что я и стар, и сед,
я уплыву, ребята, в Данию
за добрым Сказочником вслед.
Там за каретою нетряскою
по ненакатанному льду
не шумной улицей, а сказкою,
её сюжетом побреду.
И, вопреки сединам действуя,
волшебной силою ведом,
походкой трепетною в детство я
войду.
...Полузабытый дом
бревенчатый в кустах акации
и двор, и кадка у крыльца.
Мы с мамой ждём в эвакуации
известий с фронта от отца.
Здесь было столько понамешано!
Здесь, не соизмеряя шаг,
шёл мальчик тропками и межами,
отыскивая свой большак,
шёл за звездой своею дальнею,
в пути нащупывая путь...
Всё длится сказка.
Ну, а в Данию
он уплывёт.
Когда-нибудь.
* * *
Я иду и иду.
Не мешают мне камни дорожные.
Я иду наугад, наступая на чьи-то следы.
Светят звёзды в ночи –
и тревожные, и осторожные,
ограждая меня от сумы, от тюрьмы, от беды.
Я иду.
На пути и канавы бывают, и надолбы. –
Можно их перейти, можно их обойти стороной.
Но, наверное, шаг придержать мне когда-нибудь
надо бы –
оглядеться, задуматься:
что происходит со мной?
Может, мне мимоходом
подарит улыбку красавица,
и случится, что–вдруг–неожиданно–нам по пути...
Дует ветер.
Плеча он своею ладонью касается.
Пусть он дует.
Я буду идти
и идти,
и идти.
покаяние
Я жил, наговорив сто тысяч слов.
Сто тысяч слёз я выцедил из ока.
Они текли потоком с водостока,
но были равнодушны жлоб и сноб.
И я решил: не славить, не бранить.
Я губы сжал. Я больно стиснул зубы.
Вот схорониться где-нибудь в лесу бы,
и – чтоб оборвалась на этом нить.
Но доброхот сказал:
«Ишь ты каков!»
Моё молчанье поместил в цитаты.
Кричали мне:
– Не сохранил лица ты!
...Да вот торгуют в розницу с лотков.
Я проклят, ненавидим и любим,
распят и воскрешён и коронован.
Мне с этим жить и жить.
Но всё равно вам:
вы б точно так разделались с любым.
Я – Божий Сын?
Да полноте, абсурд!
В любви я зачат, отпрыск человечий.
Я в Храм войду, покрыв талитом плечи.
Склоню главу.
И приде, Божий Суд!
автобус
Автобус мой с откоса
летит во весь опор,
вращаются колёса,
работает мотор.
Неразличимы тени,
не разглядеть огня.
Я сплю, и сновиденья
не мучают меня.
Во тьме прожектор шарит,
и, словно невесом,
ворочается шарик,
шурша под колесом.
* * *
По людям в жизни я не стрелял –
ни по убийцам, ни по мошенникам,
но по фанерным палил мишеням я,
не отрывая рук от руля.
Нам разъяснили: мишени – враг,
и я из джипа бил на ходу по ним,
они давно уже были трупами,
а я уняться не мог никак.
Они не прятались от погонь
и не просили других о помощи.
Ученья кончились, но потом ещё
не прекращал я вести огонь.
А утром вновь занялась заря,
и небо было пурпурно-розовым,
шли по степи бедуины с козами
(«эзим» – узнал я из словаря).
С рассвета день набирал разгон.
Я отдыхал и душой, и нервами,
а силуэты врагов (фанерные)
собою застили горизонт.
Они не рухнули от огня,
хоть попадания были меткими,
и ощутил я вдруг – всеми клетками –
что молча судят они меня.
Потом свезли их на край земли
и в яму сбросили, и сожгли.
Они, горя, улетали в небо и
там растворялись, как будто не были.
По людям в жизни я не стрелял...
I
Давиду ЛИВШИЦУ –
автору известной
и любимой “Черёмухи“.
Ни черёмухи, ни сирени...
Вечер, кресло, телеэкран.
Выпьешь водочки двести грамм,
накропаешь стихотворенье.
Сигарета – чумной дымок,
запрещённая докторами –
(ты ж, при самом большом стараньи,
сам себе запретить не смог).
Мир и красочен, и огромен,
но у каждого свой реестр.
Ох, как важно, что в мире есть –
хоть один – телефонный номер!
– Здравствуй!
– Здравствуй... –
и можно жить,
слыша просто дыханье в трубке,
зная:
кто-то и в этой рубке
на друзей не вострит ножи.
Перемена широт и стран
обостряет и слух, и зренье.
Нет черёмухи, нет сирени,
но – осталось(!) по двести грамм...
II
Давиду ЛИВШИЦУ
Брожу по выжженому полю,
долдоню всякие слова,
страдаю:
с недоперепою
гудит чумная голова.
Вечор – ты помнишь? –
выпил малость
и недоперепил чуть-чуть,
а нынче и мечусь, и маюсь,
недомогаю и лечусь.
А надо мной щебечут птахи,
а подо мной обилье ям,
а в мыслях – дактиль, амфибрахий,
анапест, и хорей, и ямб.
Сжигаю топлива избыток,
в душе лелею Божий дар,
и омерзительный напиток
воспринимаю как нектар.
III
Д.Л.
Полночь. Город спит, а я
тщусь куда-нибудь пойти.
Стынет рюмка, недопитая
после выпитых пяти,
корка хлеба недоедена,
чайник стонет на газу,
и блестит кружочек меди на
опрокинутом тазу.
Я по-имени-по-отчеству
обращаюсь к кобелю:
– Мой собрат по одиночеству!
Ваше племя я люблю.
Мне виляет хвостик радостный
(пёс приветлив, хоть и рыж):
– Опосля сорокаградусной
и не так заговоришь!
Нам обоим не до ругани,
да и я не из сквалыг:
поделюсь горбушкой с другом и
выпью рюмку – за двоих.
Побреду по спящей улочке,
курс держа на медный круг.
Хорошо после полуночи
знать, что рядом верный друг!
Вроде сущая безделица,
да и путь – и вкривь, и вкось.
Но ведь он со мной поделится,
притащив с помойки кость!
Тишь. Травинка не колышется.
Мы гуляем, не пыля.
Я читал стихи у Лившица
про такого кобеля.
IV
времена
года
(Антонио
Вивальди)
Давиду ЛИВШИЦУ
Весною, летом, осенью, зимою –
как важно быть всегда самим собою!
А ежели всерьёз, уменье оное –
явленье абсолютно несезонное.
Весна ли, лето, осень ли, зима –
всё пережить и не сойти с
ума...
* * *
Марине Шапиро из Москвы*
(декабрь 2007 года).
И я там жил...
В том дальнем далеке
был запах хвои,
вспыхивали искры,
лакал котёнок молоко из миски,
и плавали иголки в молоке.
Был белым снег,
высоким небосвод,
сверкала ёлка,
проходило детство.
Оно прошло, оставив мне в наследство
воспоминанья.
Скоро Новый год.
30 декабря 1998 года.
* В книге это стихотворение опубликовано
без
посвящения. Посвящение "Марине Ша-
пиро
из Москвы" – результат переписки
с мо-
сковским
поэтом и архитектором Мариной
Шапиро
и последовавшей затем дружбы.
Почему именно это стихотворение и имен-
но
ей? Так захотелось автору, а Марина не
возражала.
Значит, по обоюдному согласию.
* * *
Дом ли строю, сажаю дерево,
занимаю внучат игрой –
всё, как надо, всё соразмерено,
положительный я –
герой!
И в душе моей не разлад ещё,
впасть в отчаянье – недосуг.
Значит – рано спешить на кладбище,
порох есть и – покуда – сух.
Не суди меня, красна девица,
не кори меня, не брани.
Погляди, что на свете деется!
Окаянные – что за дни!
Уходя, не подымет Лот лица
и от глаз не отымет рук.
Ох, как сердце в груди колотится!
Ах, как страшно глядеть вокруг!
Ожидаю расправу скорую
(неспасённые не спасут!). –
За Содомом и за Гоморрою
неминуемый Страшный Суд.
Вешка скорбно спешит за вешкою.
У безвременья мы – в плену.
...А в себя заглянуть – помешкаю,
содрогнусь и – не загляну.
ремонт
В доме перекладывают пол,
чинят двери, ввинчивают краники.
Полный двор железа и керамики –
ни пройти, ни поиграть в футбол.
Целый день несносный тарарам,
крутятся чумазые громилы,
трудятся корейцы и румыны,
коими командует Абрам.
У него кипа сползла на глаз.
Чешет по-румынски, по-корейски
и руками машет по-еврейски,
если не хватает слов и фраз.
Все они в работе заодно,
вместе кофе пьют и славно ладят,
а в расчёт Абрам им недоплатит –
усмехнётся: так заведено.
Я достану красного вина
и налью корейцам и румынам.
Поезжайте к собственным руинам,
каждому своё – ничья вина.
Да никто не ставит и в вину,
c'est la vie, как говорится, данность.
А когда я сам с собой останусь,
я их добрым словом помяну...
* * *
Творить биографию начерно
прописано мне на роду,
и брод, как Судьбой предназначено,
я, брода не зная, пройду.
А вехи в пути обозначатся,
и радуга встанет дугой,
и следом, бездумно и начисто,
дорогу осилит другой.
Но я ни на что не посетую.
На дело на всякое скор,
проснусь, не дождавшись рассвета, я
и выйду в предутренний двор,
и небу – разбойно и молодо –
я в голос стихи прокричу.
Прохожий, похожий на Воланда,
потреплет меня по плечу.
* * *
Приятель мне сказал, что я чудак.
Другие согласились: «Это так».
Все, кто знаком со мной и не знаком,
с тех пор меня считают чудаком.
Прохожий палец поднесёт к виску
и скажет, на меня кивнув:
– Ку-ку, –
обронит снисходительно:
– Пока! –
мол, никакого спроса с чудака.
Не стал я разбираться, что да как,
спокойно пребываю в чудаках,
а стать иным – ну, право, не с руки:
мне очень симпатичны чудаки.
Коль этот мир действительно таков,
я б жить хотел в Созвездье Чудаков,
светить, мерцать и не тускнеть ничуть
над озером с чудным названьем Чудь,
чтоб протянулась женская рука,
чтобы нашла в Созвездье чудака,
а поутру услышала заря:
«Какой чудак!»
И ночь прошла не зря...
вечная
тема
I
Какая печальная истина:
мне скоро уже шестьдесят,
и осень шершавыми листьями
старательно выстелит сад.
Но все-таки как-то не верится,
что время уже на постой.
А шарик все крутится-вертится,
как в шуточной песенке той.
II
Понимаю судьбу иначе,
не из дома стремлюсь – домой,
и иные теперь задачи
ставит возраст передо мной.
Только хочется вдаль вглядеться,
оглянуться – через года,
окунуться, как в омут, в детство
и остаться там навсегда.
Вот стою посреди поляны,
на росистой стою траве,
и – смешно! – копошатся планы
в несмирившейся голове.
Забывая, что – недалече,
что, быть может, уже вот-вот,
почему-то расправил плечи,
для чего-то втянул живот,
размечтался на миг о чём-то,
понадеялся: получу!..
Мне навстречу идёт девчонка
по рассветному по лучу.
И суставы уже не ломит,
чёрный цвет обрели виски,
и, счастливый, ушёл я в омут
неизбывной моей тоски.
III
Листаю я страницы дневника
(которого не вёл – и сожалею,
поскольку ворох лет всё тяжелее,
а ноша и взаправду нелегка).
Здесь время не оставило следов –
ни пропуска, ни кляксы, ни описки.
Кто разглядит отметины и риски
в пыли дорог, на стенах городов!
Перебираю: за строкой строка
проходят годы и мелькают лица.
Уже близка
последняя страница
дневника.
IV
Я хочу умереть в апреле,
хорошо бы в начале дня,
чтобы съехаться все успели,
кто пойдёт провожать меня.
Не хочу умирать в субботу,
вот четверг – подходящий срок,
чтобы завтра не на работу –
можно вместе побыть часок.
Прошуршит ветерок весенний,
лунный круг заблестит в окне,
и устроят друзья веселье
в память добрую обо мне –
будто с ними я, будто здесь я,
слышен голос мой, слышен смех.
Я ж при этом из поднебесья
буду радоваться за всех.
Свой небесный бокал наполню
переливом апрельских звёзд.
Я люблю вас, я всех вас помню
и за вас подымаю тост.
В дальней роще польются трели.
Ангел в небе зажжёт звезду.
Это будет:
в четверг,
в апреле,
в неизвестно каком году.
V
Скоро время придёт – я покину родные пенаты
и забуду стихи, птичье пенье забуду и речь.
В запредельных материях страж,
незакованный в латы,
станет службу нести и безмолвие строго стеречь.
На земле всё по-прежнему.
Там для парней и девчонок
будет солнце светить.
Дай-то Бог, чтобы им довелось
испытать в первый раз:
вкус картофельных клубней печёных,
запах летней степи
и растрёпанных ветром волос.
* * *
Ещё сижу я на казённом стуле,
ещё лелею свой спесивый нерв,
всё это так. Но с первого июля –
good bye, коллеги! Я – пенсионер.
Свобода, бля!
Теперь – к земле и воле:
скамейка в парке, очередь к врачу,
подальше от промышленных зловоний –
к здоровой пище и к параличу.
Кефир на завтрак и газета к чаю,
и твёрдый стул, и слабые глаза –
всё будет.
А теперь я изучаю
науку “забивания козла“.
Искусство в ней нужно, а также навык –
нелёгкий труд ладони и уму,
умение послать партнёра на фиг,
но там не оказаться самому.
И вот, пока я на казённом стуле
ещё лелею мой спесивый нерв,
предупреждаю: с первого июля –
hello, соседи! Я – пенсионер.

* * *
Я чудной, седой и добрый,
вирши капают в тетрадь.
Выйду в путь однажды с торбой –
Христа ради собирать.
Настороженный и чуткий,
уповая на “кабы“,
буду я играть на дудке,
песни петь, чечётку бить.
Расспрошу людей о чём-то,
подужу в мою дуду,
а меня отправят к чёрту –
ничего не подадут.
Горе комом станет в глотке,
но, продолжив скорбный путь,
у какой-нибудь красотки
попрошу чего-нибудь.
Вот стою – ума палата,
у неё ж – глаза, что льды.
Скажет мне:
– Не дам ни злата,
ни воды и ни еды.
Скажет:
– Ты причастен к тайне,
ты, мол, прочим не чета.
Скажет:
– Вирши почитай мне.
Скажет:
– Вирши почитай!
Уведёт меня в покои –
от покоя в непокой.
А потом пойдёт такое!..
Вот я выдумщик какой.
* * *
Мне поутру не спится,
а ты всё спишь да спишь...
Несётся колесница
над черепицей крыш,
взмывает в небо круче
над чередою туч.
Конями правит кучер,
натягивая луч.
Нещедрый свет струится
с предутренних небес.
В железной колеснице
не дремлет старец Зевс.
Туманная завеса
и горная гряда,
и сладострастца Зевса
седая борода.
Ни бегства, ни погони,
земля в глубоком сне.
Куда же скачут кони?
Естественно, ко мне.
Так пусть замучит зависть
завистливых повес:
двух писаных красавиц
везёт всесильный Зевс!
Видна в просветах зелень,
шумит морской прибой,
и скоро мы поделим
красоток меж собой
и уведём в чертоги
на лебединый пух.
...Объятья,
...руки,
...ноги... –
Захватывает дух!
Всё ближе, всё короче
пробег меж ним и мной.
Я слышу, как грохочет
железо за стеной.
То загремит, то ухнет,
и наступает тишь...
Да это ты на кухне
кастрюлями гремишь!
Под перезвон металла
верчусь на простыне,
а ты пораньше встала
и кашу варишь мне.
недоумение...
Мне приснился странный сон:
вечер, небо голубое,
город, улица, газон,
ты да я да мы с тобою.
А потом сгустилась синь
и стемнело в одночасье.
Тут осёл заголосил
(или это я – от счастья?)
Месяц по небу плывёт,
словно чёлн по глади моря.
Зарыдал на крыше кот
(или это я – от горя?)
От весны и до весны
и от лета и до лета
снятся мне такие сны.
Не пойму, к чему бы это...
* * *
Когда перевалит мне за девяносто,
нестарый мужчина обычного роста,
покладистый и с неплохим состояньем,
я лягу в постель с очень милым созданьем,
с девчонкою до неприличного юною
(я возраст её и назвать не подумаю).
И с этой девчонкою, с этой девчонкою
замру на мгновенье и вспомню о чём-то я,
и весь напрягусь я, и вытяну тело я,
и нужного телодвиженья не сделаю.
И вскрикнет девчонка и скорбно, и тоненько,
признавшись, что очень любила покойника.
случай из жизни
Рыжее небо во время заката,
рыжая девка, к тому же брюхата,
рыжий автобус
и рыжий мужик –
он за автобусом рыжим бежит.
Небо подёрнулось серою дымкой.
Девка брюхатая стала блондинкой.
Ну, а автобус ушёл с мужиком,
скрывшись из виду за сизым дымком.
Быстро стемнело, и вспыхнули окна.
Дождик закапал, и девка промокла.
Ну, а поскольку кругом темнота,
мне показалось, что девка не та.
Я подхожу, мне проверить охота.
Басом она обращается:
– Кто ты?
Я в темноте обознался совсем:
это мужик,
он в автобус не сел.
чаянье
Печальный начальник –
начальный печальник
пустыми речами меня не мочалит.
Он молча чадит, он читает за чаем
да смотрит на чаек, качая плечами.
То к вечеру тучи, и ветер крепчает,
то утро врачует, венчая лучами,
то петли дверные ворчат и судачат,
что все домочадцы ночуют на даче.
Печальный начальник –
начальный печальник
читает,
чадит
и плечами качает.
про коня и про меня
В степи горит огонь.
Давно погас закат.
Разгуливает конь
в пальто до самых пят.
Путь предстоит далёк,
всё будет: зной и пыль.
Какой-то паренёк
коня себе купил.
Он приготовил плуг
для полевых работ.
Они распашут луг,
и будет капать пот.
А на исходе дня
под бражный трёп и мат
сдаст паренёк коня
на мясокомбинат.
И за монет за сто
он в память о коне
ненужное пальто
продаст, быть может, мне.
Я буду жить легко,
покуда хватит сил.
Пальто мне велико –
ведь конь его носил...
про таксу
Гуляет такса вся в джерси,
в штанах покроя «макси»,
и ездит такса на такси
по самой льготной таксе,
и задирает такса нос,
и носит такса шляпу.
Гуляет с таксой пёс Барбос
и гладит таксе лапу.
У таксы неказиста стать,
и нос у таксы кляксой,
но всё-таки...
а кто бы стать
не согласился таксой? –
чтобы ходить всегда в джерси,
в штанах покроя «макси»
и ездить только на такси
по самой льготной таксе,
и задирать пред всеми нос
из-под шикарной шляпы,
и чтобы гладил пёс Барбос –
и даже обе лапы,
и чтоб везде, и чтоб всегда,
при всём честном народе...
Но светит лишь одна звезда –
увы! – на небосводе.
И как налево ни коси,
как ни коси направо,
несётся такса на такси.
Она
имеет
право.
про чёрта
В нашем крае очень слабы
старики и молодёжь.
Каждый год рожают бабы,
от кого – не разберёшь.
Чёрте-что твердит молва. –
Кругом ходит голова...
Чёрт мутит деревню нашу,
носит он портфель в руке.
Чёрт из дёгтя варит кашу
по утрам на бугорке.
Варит чёрт, поёт о чём-то,
поминая в песне чёрта.
Очень любит чёрта чёрт.
А внизу река течёт.
По-простому и по фене –
может чёрт и так, и так.
Носит чёрт в своём портфеле
завалявшийся пятак.
Он заходит в лавку к Кате,
лезет к Кате в закрома.
А уйдёт – и не заплатит,
всё стремится задарма.
И зачем ему пятак?
Говорят, что просто так.
В нашем крае этот чёрт
знает всех наперечёт.
А в портфеле для учёта
бланки разные у чёрта.
Ночь. Во тьме собака лает,
но у чёрта страха нет.
По деревне чёрт гуляет,
наших девок трахает
и разносит по анкетам
все подробности об этом.
Чёрт сидит на бугорке,
держит он портфель в руке,
заполняет бланки чёрт,
а внизу река течёт.
* * *
Ренате
МУХЕ
В начальных числах февраля
я, сын враля и внук враля
и сам небезызвестный враль,
проснулся рано, вышел в рань,
увидел даль, такую райскую,
ну, совершенно не февральскую.
Но мне сказал приятель:
– Плюнь,
у нас в стране всегда июнь.
В краю потомственных вралей
и не бывает февралей.
А то, что на дворе февраль,
тебе сказал приезжий враль.
девочка и гномик
(грустная
сказка)
Позвольте
вам представиться: я гномик.
Я
нарисую девочку и домик.
У
домика высокое крыльцо.
У
девочки печальное лицо.
Вы
слышите? –
Над
крышей птичье пенье.
Вы
слышите? –
Скрипят,
скрипят ступени.
Вы
видите? –
У
леса на виду
я
по ступеням девочку веду.
Я
девочке скажу:
«Я
здешний гномик.»
Я
двери распахну:
«Войди
в мой домик.
Вот
крыша над твоею головой. –
Она
твоя,
и
домик тоже твой.
В
нём всё, как на картинке в детской книжке:
дощатый
пол, под ним скребутся мышки,
тут
стол, скамья приставлена к столу
и
даже печь с ухватами в углу.
Ещё
и шкаф могу дорисовать я,
раскрою
шкаф и нарисую платья,
на
гвоздике расшитый поясок,
а
на шкафу плетёный туесок.»
Я
девочке слегка подкрасил губы,
я
сделал ей весёлое лицо.
Но
– чу! Идут из леса лесорубы,
умолкли
птицы и скрипит крыльцо.
Позвольте
вам представиться: я гномик.
Нарисовал
я девочку и домик.
У
девочки весёлое лицо.
У
домика высокое крыльцо.
Я
стены побелил, раскрасил дверцы,
нарисовал
широкую кровать.
Я
сделал всё, что мог.
Но
только сердце
я
девочке забыл нарисовать.
Я
ей подкрасил и лицо, и губы
и
объяснил язык зверей лесных,
да
вот пришли из леса лесорубы,
и
девочка ушла с одним из них.
Кто
я теперь?
Я
одинокий гномик.
Беру
резинку и стираю домик,
крыльцо,
следы чужие на крыльце,
изобразив
улыбку на лице.
* * *
Я спросил у Павла Глобы:
«Что я должен делать, чтобы?..»
Пусть подскажет этот Глоб,
что я должен сделать, чтоб...
Я последовал совету,
делал то и делал это
с выражением лица –
до победного конца.
Почитатель строгих правил,
я сказал: «Спасибо, Павел!
Вам, товарищ звездочёт,
уваженье и почёт!
Слава Вашим гороскопам!
Дом мой полон, сад мой вскопан,
и шумит своей листвой
эвкалипт над головой.»
Но... однажды в день весенний
мне сказал дружок Арсений:
«У тебя, мой дорогой,
гороскоп совсем другой.»
Оказалось:
в самом деле
спутал я все дни недели,
даже месяц, даже год –
мой расклад совсем не тот.
И теперь у Павла Глобы
я спрошу:
«Что делать, чтобы?..»
* * *
Сколько кругом понамешано, Господи, сколько!
Танька и Ванька, и Толька, и Олька, и Колька.
Свадьбы, измены, разводы...
Рождаются дети:
Аньки и Саньки, Раисы, Денисы и Пети.
Свадьбы, измены, разводы...
И снова, и снова:
Галя и Валя, и Аля, и Лёва, и Вова,
Роберт какой-то, какие-то Жанна и Вилли...
Ева с Адамом, да что ж это вы натворили!
бы...
То ли дождь, туман ли. Сыро.
За себя не поручась,
инкассатора ль, кассира
я б ограбил в этот час.
Сам себе могу признаться,
словно личному врачу:
мне бы пачку ассигнаций! –
я богатым стать хочу.
Отыскав на карте место
между небом и водой,
я купил бы королевство
с королевной молодой.
Стану жить не так, как прежде:
ублажу любую блажь!
На морском бы побережье
я построил бы шалаш.
Старый житель Беэр-Шевы,
не под небом голубым,
словно в замке, в шалаше бы
королевну бы любил.
Юный, стройный, непузатый,
я б предстал пред ней, лучась.
Но... ни кассир, ни инкассатор
не проехал в этот час.
Я прогуливаюсь нервно,
а душа горит в аду.
Молодая королевна
ждёт, когда же я приду.
Приглушу мою жаровню,
отобью по факсу весть:
«Отыщи, прынцесса, ровню,
примирись, мол, с тем, что есть...»
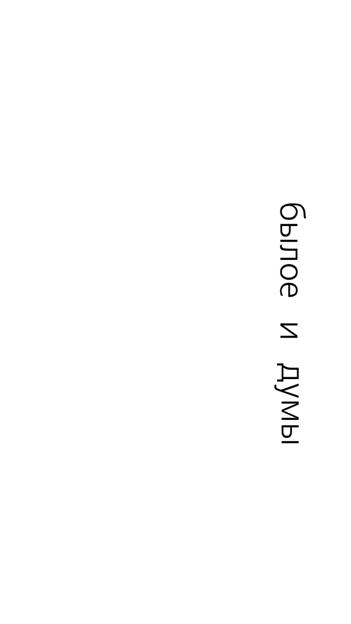
в ту войну,
которая ещё не
закончилась
Тогда, ещё в начале девяностого, мы понимали,
что иракский правитель Саддам Хусейн развяжет войну. И всё-таки первый обстрел
израильской территории иракcкими
“Скадами“ советского производства застал нас врасплох: оказывается, долгое
ожидание войны не делает человека способным примириться с ней.
В первый день по указанию правительства
работали только жизненно необходимые службы. Я в то время сотрудничал в газете
«Новая панорама», которую редактировала милая энергичная Таня
Бабушкина-Вайнтрауб. 17 января, назавтра после начала обстрелов, часов в
десять утра Таня позвонила мне в Беэр-Шеву.
– Ты где? – спросил я.
– В редакции. Я здесь одна. Ты же понимаешь,
что несмотря ни на что газета должна выйти. Включи компьютер и пиши. Пиши
стихи, очерки, рассказы, составляй кроссворды, ребусы. Печатай так, чтобы
ширина колонки была восемь сантиметров, и посылай мне по факсу. Газета должна
выйти.
Стране понадобилось несколько часов, чтобы
приспособиться к условиям военного времени. На следующее утро граждане
приступили к своим повседневным делам. В редакцию пришли почти все сотрудники,
и Таня облегчённо вздохнула. Мои героические усилия ей не понадобились. Газета
вышла. А через неделю Таня позвонила опять:
– У людей тревожное настроение, а пресса даёт
только серьёзные материалы. Нужно заставить читателей улыбнуться. Пришли
что-нибудь весёлое... и – сексуальное.
Так родился “цикл“ «С ТОБОЙ И НА ТЕБЕ», и я
был вознаграждён заразительным смехом моего очаровательного Главного редактора.
“Цикл“ появился в ближайшем номере газеты.
Война прочно вошла в нашу жизнь; впоследствии
её назвали “Войной в Персидском заливе“; она длилась долго; порой у меня
возникает ощущение, что она ещё не закончилась. Да так, наверное, и есть.
въ пыли архивной отыскавъ...
Письмо
в редакцию.
Уважаемая
“Новая панорама“!
Я поэт. Я
пишу стихи. Разные.
Во время
мира – про мир.
Во время
войны – про войну.
Во время
любви – про любовь.
Ну, и так
далее.
Предлагаю Вам
напечатать мой новый военно-любовный цикл, который я назвал «С ТОБОЙ И НА
ТЕБЕ», потому что так оно и было.
Я знаю,
что в других местах за такие циклы давали Сталинскую премию. Но разве у нас дождёшься!
Я сам лично ничего против премии не имею. Но если нельзя за деньги, то так и
быть: я согласен и за любовь. То есть бескорыстно. Но уж имя-то моё укажите
обязательно, чтобы другие не примазались.
Искренне
Ваш
Тарас (Мордехай)
Запорожець-Задунайский.
С
ТОБОЙ И НА ТЕБЕ
(цикл)
лишь не случилось бы
ошибки
Я лбом пробью любую стену,
но никому Вас не отдам.
Я непременно Вас раздену,
и пусть подавится Саддам!
Его бредовые приказы
на свалку дружно понесём,
и, облачась в противогазы,
мы снимем остальное всё.
Пусть не рассказывают сказки
о панике военных дней.
Я Вас люблю.
И даже в маске
я Вас люблю ещё сильней.
За ней скрываются улыбки
и страсти сладостный оскал.
Лишь не случилось бы ошибки –
и я другую б не ласкал...
выстоим!
В мире всё преходяще и временно:
то тупик, то развилка дорог.
Говорят, что не будет беременных
после этих воздушных тревог.
Говорят, что ни страстью,
ни ласками
не заманят мужчины девчат,
и укроются лица за масками,
и не будет младенец зачат.
Мы прошли
сквозь такие сентенции,
что способны сказать наперёд:
Никогда не лишится потенции
наш воистину стойкий народ.
Зацветут повсеместно плантации,
запоют соловьи по садам.
Помешать прибавлению нации
не сумеет проклятый Саддам!
переборы
Сыпь, гармошка – ох ты, ах ты!
Будет гнить Саддам в гробу!
Стану я, друзья, на вахту –
я девчонку... загребу.
Как ни пей, как ни косей,
но
–
сохрани и пыл, и дух.
Я назло тому Хусейну
обрюхатил даже двух!
Всё согласен бы стерпеть я,
всё исполню, сбившись с ног,
но вот третью, но вот третью
обрюхатить я не смог.
Сыпь, гармошка, – ох ты, ах ты!
нараспашку, напоказ!
Две уродины брюхаты:
им помог противогаз!
А ещё одну дивчину
обошёл я ласкою,
потому что образину
не прикрыла маскою.
И
пошла она по свету
разносить лихую весть...
Чего нету – того нету,
а
что есть – то, братцы, есть.

* * *
Хочу с природой быть на «ты».
Любя и веря,
хочу выращивать цветы
и гладить зверя,
и быть прямым, и только – вверх,
как к небу пальма,
и не дрожать от стука в дверь
и от напалма,
касаться глаз и губ и щёк
и слышать «милый...»,
и знать,
что женщина ещё
не изменила.
новоявленному кинорежиссёру
Т.Б.
Будешь жить ты теперь в замке,
сколько хочется – есть сёмги.
Навостришь ты свои санки
на какие-то там съёмки.
При тебе станет враз крепко
всё, что было порой зыбко.
Разрастётся твоя репка,
и послужит тебе рыбка.
Станут дни твои цве- тисты,
где пройдёшь – затрубят трубы.
Популярные ар- тисты
зацелуют тебя в губы.
Будет небо твоё в звёздах,
расцветут для тебя зори,
не набухнет грозой воздух,
не нагрянет к тебе горе.
Жизнь узнаешь не с из- нанки,
не завертишься в по- зёмке.
Заживёшь ты в своём замке,
будешь досыта есть сёмги.
Пусть несутся твои санки –
НАЧИНАЮТСЯ СЪЁМКИ!
над вечным покоем
I
Пока я телом не ослаб ещё
и не сломил меня недуг,
приду однажды я на кладбище,
чтоб укрепить нетленный дух.
Связав невидимыми нитями
времён скользящих череду,
на встречу с ангелом-хранителем
к стене кладбищенской приду.
Течёт здесь вечность струйкой тоненькой,
и ангел мне вернёт покой
своими тёплыми ладонями,
своею ангельской рукой,
и возродит былую твердь мою,
и тихо мне навеет сны,
и обернётся доброй ведьмою
у той кладбищенской стены.
II
Нет, здесь мои кости лежать не остались –
я гость на погосте, а не постоялец.
Над кладбищем месяц холодный и медный.
Он видит: мы вместе с красавицей-ведьмой.
Ах, мне бы – да с нею остаться до гроба!
Нет, я не краснею.
Мы – счастливы!
Оба.
Сладкого
сока горечь
пролог
Так знайте же – о, ратницы и ратники:
мне в вечной жизни уготован ад.
Я заходил в чужие виноградники –
в чужом саду так сладок виноград!
Я гнул лозу, прокравшись поздним вечером,
срывал я гроздь, когда пылал рассвет,
и променял моё блаженство вечное
на краткий миг, который был – и нет.
Когда ж рука холодная и липкая
в конце концов нашарит мой висок,
приму её со светлою улыбкою
и с губ слижу последний сладкий сок.
запев
Судьбе и себе благодарен,
живу неприметно и чинно,
и, страсти умерив с годами,
теперь я степенный мужчина.
Любуюсь травою и небом,
в ладу и с собою, и с миром,
на завтрак довольствуюсь хлебом
со свежим холодным кефиром.
Не очень нуждаюсь в диете.
Пока не тревожит желудок.
Вполне обустроены дети.–
Короче, нормально живу так.
И вроде не дряблое тело,
и выпукло движется бицепс,
и так, чёрт возьми, захотелось
ещё напоследок влюбиться!
1-го
января
тысяча
девятьсот
високосного
года
Покумекаю, плюну, дуну я,
ущипну себя: сплю? – не сплю?
Я сначала тебя придумаю,
а уже потом полюблю.
Ты не курская, не казанская –
где земли твоей полоса?
Будут кудри твои – цыганские
и – египетские глаза.
Дуну, плюну я, покумекаю,
глаз твоих соберу лучи,
станешь ты моим добрым лекарем –
будешь душу мою лечить.
Призадумаюсь я над именем,
чтобы было тебе под стать.
Я посыплю искристым инеем
твои волосы – лишь подставь.
Покумекаю, дуну, плюну я,
гляну в небо – в сплошную муть,
ночью тёмною и безлунною
сочиню тебе что-нибудь.
Видишь, добрый какой сегодня я,
как теплеет моя душа!
Просто глупости новогодние
сами льются с карандаша.
про
любовь
Надо мной не кружи
птицей-ястребом.
Что же делать, скажи,
буду я с тобой?
Ты хватаешь за грудь –
в глазах крапинки,
не даёшь продохнуть –
ну, ни капельки!
То ли день, то ли ночь –
нет мне выхода,
даже сделать невмочь
вдоха-выдоха.
На висках серебро,
плешка кратером –
бес вселился в ребро
как проклятие.
От стыда б от позора
избавиться –
да стоит перед взором
красавица.
* * *
Сяду я в углу потише,
притаюсь, как в норке мышь.
Что с тобою?
Погрусти же! –
хорошо, что ты грустишь.
В жизни всё решает случай:
враз взлетишь, и снова – вниз.
Что с тобой?
Тебе получше?
Улыбнись же!
Улыбнись...
ещё раз про любовь
За окошком дерево
листьями шуршит.
Как любовь измерена? –
Вглубь ли?
Ввысь ли?
Вширь?
Пульса ли повторами?
Вспышками ли глаз?
Складкой ли, которая
нынче пролегла?
Спазмами ли нервными?
Ночками без сна?
Или не измерена
всё ещё она?
* * *
Ни удержу, ни сладу
в наплывах маяты.
Мне ничего не надо –
была б со мною ты.
Мозги твои запудрю,
ворвусь к тебе во сне
и разбросаю кудри
по белой простыне.
Ни удержу, ни сладу –
хожу, от счастья глуп.
До капли всю помаду
с твоих сцелую губ.
Слова мои без фальши,
поступки без личин...
О том, что будет дальше,
мы вместе промолчим.
*
* *
Тревожно денно, тревожно нощно.
Зовёшь – лечу.
Пусть глохнут стены.
Пусть слепнут окна.
Прижмись к плечу.
Теперь ты рядом – дыханье, руки,
дрожанье век.
Мы растворяем себя друг в друге –
на миг? навек? –
теряя шансы на дальность рейса –
вперёд ли, вспять...
Как надышаться?
Как насмотреться?
Когда опять?
Нас оголтело швыряют штормы и мнут бока.
Прикроешь тело.
Отдёрну шторы.
– Пока....
* * *
А может быть, я вовсе не живу.
А, может быть, мне это только снится –
все эти окружающие лица
во сне приходят, а не наяву.
А, может быть, насмешкою дразня,
а сами, вовсе в искренность не веря,
идут в мои распахнутые двери
во сне моём притворщики-друзья.
А, может быть, прикосновенье губ
и трепет век прекраснейшей из женщин –
полёт, которым сон мой был увенчан.
Да как теперь проснуться я смогу!
А если я, встряхнувшись ото сна,
вдруг оглянусь по сторонам – и сразу
услышу отрезвляющую фразу,
которая разрушить всё должна!
И станет явь убога и тесна.
Напуганный внезапным пробужденьем,
я захочу вернуться снова к теням –
к виденьям зыбким радужного сна.
* * *
Гремят токкаты и фуги,
распластана зелень крон.
Мы вместе на центрифуге,
но с разных её сторон.
Не убежать от закона
слепых центробежных сил.
Взлетаем вверх по наклонной,
почти срываясь с оси.
Чем выше, тем больше радиус,
тем бешеней скачки ритм,
и каждый взгляд, как украденный,
и каждый – неповторим.
Раскручивает центрифуга,
врезаюсь плотней в ремни.
Нам надо настичь друг друга –
постой же, повремени!
Своим полукругом дальним
лечу, обгоняя звук,
и знаю: исход летальный,
когда остановка – вдруг.
Падение – и крушенье,
последних объятий стон...
Взаимного притяженья
неистребим закон!
Под нами дали присели,
соскальзывая под уклон.
На жизненной карусели
мы – с разных её сторон.
Орбитою беспокойной
летим, не сходя с кольца,
в бессмысленность ли погони,
в осмысленность ли конца.
* * *
Ой ты, лебедь моя – царевна,
украшенье небес и вод!
Пусть в груди твоей сука-ревность
золотое гнездо совьёт,
не давая тебе покоя,
пусть идёт по следам, как тень,
пусть коварной своей рукою
расправляет твою постель,
пусть приляжет к тебе на ложе,
душу выпьет твою до дна
и терзает тебя, и гложет,
как умеет она одна,
пусть отравит и дни, и ночи,
заползёт и в окно, и в дверь.
Только слушай её не очень –
и люби,
и ревнуй,
и верь.
* * *
Я заливаюсь соловьём
так бесшабашно!
У нас – у каждого – своё,
своя рубашка.
У нас – у каждого – уклад,
друзья и дети.
У нас – у каждого – свой взгляд
на всё на свете.
У нас – у каждого – свой дом,
свой ключ к замочку,
и мы друг к другу не войдём
ни днём, ни ночью.
Гнезда мы вместе не совьём
ни в сушь, ни в морось.
У нас – у каждого – своё
не вместе – порознь...
* * *
Поблядушки-поблядушки:
порезвились – разошлись.
Две измятые подушки,
вечер, небо, звёзды. –
Жизнь.
Завтра у других пристанищ
будешь ты – любить ли, лгать.
Завтра ты с другими станешь
теребить подушек гладь.
Отрешенья высший градус
кто изведает с тобой?
Ты другим подаришь радость.
Ты себе оставишь боль.
Но однажды руки эти ж
вдруг взметнутся среди стен.
Но однажды вдруг заметишь
ты мою немую тень.
Небосвод окном окован.
Полумрак неумолим.
Назовёшь ты вдруг другого
тихим именем моим.
Я растаю, словно не был,
словно не жил никогда.
Не сгорает долго в небе
догоревшая звезда.
* * *
Поползли мои мозги набекрень,
захлебнулось моё сердце в груди.
Только слышу:
– Обогрей, обогрей!..
Только вторю:
– Остуди, остуди!..
Разгулялись надо мной ливни.
Мне пути пересекли струи.
Разрываю на бегу струны
всех магнитных силовых линий.
Я сорву замки с ворот и дверей,
все завалы развалю впереди.
Слышу голос:
– Обогрей, обогрей!..
Умоляю:
– Остуди, остуди!..
* * *
Мы вместе – лёд и пламень.
Мы врозь – глаза пусты.
Найдёт коса на камень –
ни камня, ни косы.
Живём, как на вулкане,
в предчувствии грозы.
Найдёт коса на камень –
ни камня, ни косы.
И взвешивать не станем,
и – к чёрту все весы.
Найдёт коса на камень –
ни камня, ни косы.
Своими же руками –
на части, на куски!
Найдёт коса на камень –
ни камня, ни косы.
Нашла коса на камень...
Нашла коса на камень...
Нашла коса на камень...
Ни камня, ни косы.
* * *
Уходим –
кто в загул, а кто в запой,
но нас везде подстерегают рифы...
Наш эпилог явился сам собой –
без позы,
без поэзии,
без рифмы,
так запросто
(вопрос давно решён),
в толпе
(мелькали плечи, спины, лица).
Ты бросила небрежно:
– Зря пришёл, –
добавив вслед,
что просишь не сердиться.
Любой вопрос не нужен и нелеп
и не имеет, стало быть, значенья.
...По улице мужчина средних лет
шагал
с завидным чувством облегченья.
Был ясный день
(а ночью дождь прошёл).
Светило солнце
(ночью были тучи).
Мужчина думал:
«Это хорошо!»
(а в скобках верил в то,
что будет лучше).
* * *
Струится за словом слово –
беседа:
вопрос – ответ.
Мы в полупустой столовой
сидим и жуём обед.
За окнами дождь. Он сразу
прохожих и мусор смыл.
Роняем за фразой фразу –
за мыслью скрываем смысл.
И надо бы – да не спросим,
оброним в конце:
– Пока...
Вдоль улицы гонит осень
лохматые облака.
Молчанье заполнить нечем. –
Повис тишины набат.
А было:
горели свечи,
звучал ре-минорный Бах,
и ночь наполнялась пеньем
до дальних до звёзд почти,
и слышались по ступеням
весёлые каблучки.
Не станем же биться оземь –
платить ностальгии дань!
Вдоль улицы гонит осень
былое куда-то вдаль.
А там, за сплошной завесой
невидимый, под дождём,
какой-то другой повеса
тебя терпеливо ждёт.
Промокла его рубаха,
дождинки текут вдоль щёк.
Токкаты и фуги Баха
ему предстоят ещё,
и будут ночные бденья
и бешеных фар лучи,
и вверх – по его ступеням –
весёлые каблучки.
* * *
Грущу.
И летом,
и в мороз
ищу
ответы
на вопрос:
обман – или промашка?
роман – или ромашка? –
срываю лепестки,
гадаю от тоски.
Всегда
в ответ
то – «да»,
то – «нет».
Ой, люли-люли-баю!
Люблю ли?
Сам не знаю.
* * *
Стою, опершись о стену,
не давит на сердце груз.
Бывает:
любви на смену
нежданно приходит грусть
и чувство вины и – вместе –
сознание правоты...
Порою доходят вести,
да – изредка – снишься ты.
* * *
Вике
Аэропорт или вокзал
или пристройка у причала...
и женщина мне вслед кричала...
а я куда-то уезжал...
Она твердила:
– Дорогой! –
и повторяла:
– Возвращайся... –
а я не знал, что это счастье,
и ей в ответ махал рукой.
...Попутчицы платочки мнут,
и кажется в минуты эти,
что им не хватит междометий
на эти несколько минут.
Но – удаляется ландшафт...
и женщина...
и тает кромка...
Я ничего не слышу...
Громко
лишь кровь пульсирует в ушах.
листопад
Вике
Я знаю, что в субтропиках растут
одни вечнозелёные растенья,
но не могу смириться вместе с тем я,
что не бывает листопада тут.
Ну, как же так – не пожелтеть листу,
а, пожелтев, не задрожать под ветром,
а, задрожав, в порыве чуть заметном,
застенчиво теряя высоту,
не заскользить по робкому лучу –
кружить и падать, и кружить, и падать,
и замереть надолго. Но всегда ведь
лист припадёт к земле или к плечу.
А в воздухе немыслимый настой
разлит вокруг, куда бы ни пошёл ты,
и ветер куролесит в кронах жёлтых
в кустарнике и в заросли густой.
Но не бывает листопадов тут.
Сжигает луч. И удаляюсь в тень я.
Кругом вечнозелёные растенья,
и лишь они в субтропиках растут.
за
перевалом
*
* *
Жизнь как жизнь: всё тишь да гладь.
Вместе шли до перевала.
Разрешала целовать,
но вот сама не целовала.
А как ступил за перевал,
а как взглянул в другие очи...
Да я бы и не целовал,
но... только губы – сладки очень.
стихи
из повести
«Суп с котом»
девяносто четвёртый год...
ночь февральского полнолунья...
охмуряла меня колдунья...
или вовсе наоборот...
при свидетельнице-луне...
в поднебесье блестевшей медно...
сладострастно стонала ведьма...
отдаваясь бездумно мне...
сотрясался небесный свод...
облака разрывались в клочья...
этой лунной февральской ночью...
...девяносто четвёртый год год.
*
* *
Посреди бескрайней пустоты
в целом мире только я да ты,
только ты да я да пустота –
ни звезды не видно, ни костра,
ни зверей, ни птиц, ни их следов,
ни больших, ни малых городов,
никакого признака жилья –
в целом мире только ты и я.
Я проснулся, выглянул в окно.
Не светло за ним и не темно.
Мне видна из моего окна
в звёздном окружении луна,
и переливается под ней
свет полночных городских огней.
Слышен мне ночных соблазнов зов,
шум
толпы, визжанье тормозов,
и, взревев, кренясь на правый борт,
самолёт
спешит в аэропорт.
Я стою у моего окна.
Я один.
А где-то ты одна.
Посреди бескрайней пустоты
в
целом мире только я да ты.
*
* *
Пока ещё что-то и как-то
и кружится над головой,
сыграю тебе pizzicato
на звонкой струе дождевой.
В звучанье тревожного такта
ты губы подставишь лучу.
Пока ещё что-то да как-то,
прошепчешь:
– Держи!.. Улечу...
ВО!..
I
Из поднебесья свет стекал
в песок пустыни,
а я внимал твоим стихам,
ел апельсины
и запивал их коньяком
в дрожанье света,
и повторял: «Я с ней знаком,» –
не веря в это.
Мы знали ярость скоростей
и тишь партера,
а наша брачная постель –
скамейка сквера...
Не я.
На ком есть Высший знак –
тебе чета лишь...
Ем апельсины.
Пью коньяк.
Стихи читаешь.
II
Я для этого жил,
совершал
постоянно ошибки,
преступал рубежи,
собирая в
дорогу пожитки,
и ушёл навсегда
от качаний
подоблачных сосен,
и добрался сюда
я – в мою
непутёвую осень,
где и зной, и песок,
и свирепо
свистят суховеи,
чтоб – не пулей в висок,
чтоб –
сражённым быть
строчкой
твоею.
III
«А что потом? А
что потом?»
Евг.
Евтушенко
Не попру наперекор стихии,
не хочу стучаться в стенку лбом.
Ну, могу писать тебе стихи я. –
Напишу,
прочту.
А что потом?
Что потом?
Вот это – шито-крыто.
Но кого прельстит такой удел:
сидя у разбитого корыта,
горевать, что аист улетел!
Улетай.
А я прикрою ноги
пледом
и усядусь у стола –
подводить нехитрые итоги,
завершать пустячные дела.
Посижу (скорей всего для виду)
и, себе же погрозив перстом,
встану и отброшу плед, и выйду,
отыщу тебя.
А что потом?
IV
Разливается тихое зарево,
занимается робкий рассвет.
Я тебе почитаю из старого
по причине, что нового нет.
А за окнами утро лиловое
и бледнеющий звёздный покой,
и стихи появляются новые
в продолжение ночи такой.
* * *
стихи
из повести
«Суп с котом»
Не кляну, не сетую, что дескать я
вот живу и всё лелею боль.
Ты моя привязанность недетская,
ты – моя последняя любовь.
Повторяю это ненапыщенно,
как молитву тихую шепчу:
– Этот дар – не милостыня нищему,
а Господня милость богачу.
Звездопад
I
ночная дорога
из населённого пункта «а»
в населённый пункт «в»
На полной скорости войду,
ворвусь –
в блаженство или в муку.
В мою протянутую руку
ловлю летящую звезду.
Её слепящие лучи
проносятся
над тьмой предместий,
а мы с тобой вдвоём,
мы вместе,
одни
в ночи.
II
ночная дорога
из населённого пункта «в»
в населённый пункт «а»
Тире – и –
точка.
Смысл посланья прост,
и места нет ни скорби, ни обиде,
поскольку суждено любой из звёзд
когда-нибудь погаснуть на орбите.
Останется:
исчезнувшей воздав,
приободрить скорбящих:
– Не скорбите,
поскольку вспыхнет новая звезда
на новой неизведанной орбите.
III
остановка в пути
в ненаселённом пункте «б»
Наперекор любым досадам,
умытый небом весь до пят,
стою
с тобой
под звездопадом,
мы – уплываем – в звездопад.
Над нами и луна, и солнце,
вокруг – мерцанье звёздных трасс...
Мы упадём.
И вознесёмся
в последний раз.
И – в первый раз.
поэма
о бессмертии
с прологом и эпилогом
I
пролог
Попутчице под тридцать,
седьмой десяток мне.
Давно угомониться б –
пора, пора вполне.
Но эта мысль не мучит,
гоню сомненья прочь.
Нам драгоценный ключик
достался в эту ночь.
Мы отпираем двери...
Мы оба в неглиже...
И я почти что верю
в бессмертие уже.
II
........................!
............................?
..........................,
...................??
III
эпилог
Рассвет.
Пылинок россыпь
стекается к лучу.
– Ты жив? – подруга спросит.
Я скорбно промолчу.
Пора вставать, трудиться,
чтоб жизнь цвела, как сад.
Но – ей всего под тридцать,
а
мне за шестьдесят.
Исчерпан в круговерти
магический кристалл.
Бессмертье? –
Но в бессмертье
я
верить
перестал.
две колыбельные песенки
I
любимой...
Что имел я, в пути потеряно,
что задумал, не по плечу.
Я тебе не построю терема,
с неба звёздочку не вручу,
твоим детям не дам я отчества,
не приду к тебе перед сном.
Ожидание одиночества –
невесёлое ремесло...
II
...и её нерождённому ребёнку
Ты слезинками не капай,
к ночи плаксой не кажись.
Не сумели мама с папой
подарить ребёнку жизнь.
То ль случилось что-то с мамой,
то ли папа был в летах,
то ли в миг серьёзный самый
что-то сделали не так.
Не промою глазки ваткой,
не прижму тебя к плечу,
над пустой твоей кроваткой
ночничок не засвечу.
И не станет папа папой,
маме мамою не стать.
Ты слезинками не капай.
Время спать.
целомудренный вальс
В этом шаге, в загадочном шаге
и веселье, и страсть, и печаль,
и колышутся два полушарья,
задевая меня невзначай.
Драпировка накидок и складок
укрывает манящий тайник.
Я ловлю осужденье во взглядах,
но какое нам дело до них!
Под глубокие вздохи оркестра
положи мне ладонь на плечо.
Тут просторно, и – всё-таки – тесно.
Нам ещё бы тесней, нам ещё...
Шаг – налево – два шага – направо –
и – застынем, замрём, затаясь.
Проплывают за парою пара,
но какое им дело до нас!
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-где-мы?..
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.
Отзвучат-музыкальные-темы,
догорят-переливы-витрин.
Раз-два-три, раз-два-мы-дотанцуем
раз-два-три-эту-радость-и-грусть.
Раз-два-три... Говорят:-«Не к лицу им.»
Раз-два-три... Говорят? Ну и пусть!
давид и вирсавия
I
восход в
иерусалиме
Я голос твой небесный слышу,
и лишь ему отныне внемлю.
Взойди, любимая, на крышу,
сойди, любимая, на землю.
Я, узник участи печальной,
пишу позорную страницу.
Твой муж – он мой военачальник.
Я – царь. Он должен подчиниться.
Я на войну готовлю войско,
уже отправлен мой глашатай.
Меня терзает беспокойство:
как безнадежно хороша ты!
Я зову разума не внемлю
(молю: будь милостив, о, Боже!)
...Сойди, любимая, на землю.
Взойди, любимая, на ложе.
II
у моря
Здесь неба синь, прибоя шорох,
но всё сильнее раз за разом
во мне желанья, от которых
я, кажется, теряю разум.
А даль ясна, а море близко,
и нескончаем говор птичий,
но слышу голос моралиста
о неких правилах приличий.
И, этим голосом ведомо,
нас гневно осуждает быдло,
друзья откажут нам от дома,
и станет чуточку обидно.
Но это, милая, не горе,
пока волна рокочет, пенясь,
и даль ясна, и берег моря
приветливо зовёт к себе нас.
На гальку брошу полотенце,
и ад на время станет раем...
Ты приходи. Куда ж нам деться?
Мы вместе разум потеряем.
III
закат в
иерусалиме
Живу, седея и лысея,
судачу с долей обветшалой.
На той на дальней полосе я,
где всё кончается, пожалуй.
Моя Вирсавия красива.
Сын Соломон – косая сажень.
В нём мудрость царская и сила.
Он будет мной на трон посажен.
А всё-таки ещё не вечер,
и зелен луг, и сыты кони.
– О чём вздыхаешь, человече?
– О непокое...
фаллашка
Фаллаши – так в Эфиопии называют чернокожих её
жителей иудейского вероисповедания. «Фаллаш» в переводе с амхарского языка
означает «чужой», «инородец». Бытует устойчивое мнение, что предками фаллашей
были дети библейского царя Соломона и царицы Савской, посетившей Соломона в
Иерусалиме.
Внимаю утреннему гомону,
вникаю в птичий разговор,
смотрю, как под моим окном она
проходит.
И пустеет двор.
А вечером в другую сторону,
ко мне уже вторым плечом,
опять проходит через двор она
под угасающим лучом.
Вот так, не в силах оторваться, я
стою за мысленной чертой,
любуясь царственною грацией
и черт точёной чернотой.
Нет, не двором идёт, а сказкою,
дворцом – меж солнечных колонн.
Любуется царицей Савскою
любвеобильный Соломон.
Заботы отметая походя
в мечтах – к стопам её припасть,
охваченный той самой похотью,
которую зовём мы – страсть,
он видит стать её точёную,
лица немыслимый овал
и грудь, упругую и чёрную, –
такую он не целовал.
И опускается, устав, рука...
и капля пота солона...
и – будь, что будет!..
Будет Африка
его детьми населена.
...И вот: идёт моим двором она,
проходит под окном моим,
а я взираю зачаровано,
тоской библейскою палим,
внимаю уличному гомону,
вникаю в птичий разговор.
рассказ старого одисея
«На глухом полустанке,
коль попутает бес,
трахну бабу по пьянке
под покровом небес.
Иль в державной столице
среди сводчатых стен
полежу с белолицей –
и не вспомню затем.
Ах, гречанки-морячки –
пыл румян, ярость губ!
Подходи, коли зрячий,
коли пьян да не глуп!
Эй, вы, клеточки-шашки –
дорогое такси,
пересмешечки, шашни,
поцелуй, пососи!
Чесноком да укропом
пахнет свежий рассол.
Погрусти, Пенелопа,
Одисей не пришёл.
То постель, то застолье –
пей, гуляй, кореша!
...Но однажды застонет
и заплачет душа.
Потонул в пене локон,
расползлась простыня.
Но прошла Пенелопа,
не заметив меня.
Рухну, оземь ударясь,
как бревно-истукан.
Одиночество, старость,
недопитый стакан...»
Спорить с выпившим глупо,
если боль неспроста.
Наша дружная группа
занимает места,
и автобус усталый
набирает разбег.
Гладь залива и скалы
да подвыпивший грек.
у моря
Небо катит в пучину моря
раскалённую головню.
Слышу жаркий призыв:
– Amore...
Слышу тихое:
– I love You...
Чья-то юбочка, чья-то блузка,
чьи-то туфельки на песке.
– Я люблю... –
прошепчу на русском,
этом варварском языке.
Прошепчу –
и окину взором
беспредельность небес и вод.
Полыхает вдали над морем
мой закат и чужой восход.
Здесь, у моря, и я – частица
неба, вод и песков немых –
жажду к вечности причаститься,
прикоснуться – хотя б на миг.
В этой жажде прикосновенья
вдруг увижу, как меж камней
в синем небе и в белой пене
Афродита идёт ко мне.
Набегают на берег волны
издалёка-издалека.
Я взгляну
и замру невольно,
и прижмётся к песку рука.
Подойдёт она, очи вскинет,
и, прорвавшись из немоты,
я cпрошу её:
– Ты богиня?
– Нет, я смертная, как и ты.
И такая тоска во взоре,
столько боли в её тоске...
Поздний вечер и берег моря.
Свет зари угасает тускло.
Чья-то юбочка, чья-то блузка,
чьи-то туфельки на песке.
*
* *
Свистел хамсин, и голосили дали,
песок завесой над землёй висел,
а я читал стихи прекрасной даме
и слушал вальс Шопена – номер семь.
Небесный свод, не выдержав качаний,
на землю рухнул, и сгустилась тьма,
был Страшный Суд, а мы не замечали
и не сошли поэтому с ума.
Жизнь продолжалась, трепетна и бренна,
в неё врывалась за грозой гроза,
а я читал стихи под вальс Шопена,
и женщина смотрела мне в глаза.
*
* *
Я иду домой по улице.
Мокрый лист прилип к спине.
– Всё на свете образуется, –
обронил прохожий мне.
Образуется-наладится. –
Дождь покапал и пошёл.
Впереди мелькнуло платьице
и намокший капюшон.
Я смотрю: уходит в дверь она,
капюшон смахнув с волос.
Может быть, не всё потеряно
и не всё ещё сбылось.
Что-то сбудется-не-сбудется
на восьмушку или треть.
Дождь, весенняя распутица.
Надо под ноги смотреть.
*
* *
Г.П.
Настанет срок.
Я, не противореча,
делянку обрету среди могил,
и, может быть, придут ко мне на встречу
те женщины, которых я любил.
Ничьим богам я не умел молиться,
не ждал Мессию и не верил снам.
Но женщины...
Вот я гляжу в их лица,
я называю их по именам.
Они пришли.
Не злобствуют кликуши,
не существуют ни долги, ни дань.
О, как неравнодушны наши души!
Как бесконечна перед нами даль!
Ночной простор, над ним звезда повисла,
мы ворошим страницы лет и дней,
и я пойму суть замысла и смысла
родиться на земле и жить на ней.