Почитай отца
твоего
отца
твоего
Почитай
отца твоего и
матерь твою, как
повелел тебе Господь,
Бог твой, чтобы
продлились дни
твои, и чтобы хорошо
тебе было на той
земле, которую
Господь, Бог твой,
даёт тебе.
Второзаконие,
глава 5
Почитай
отца твоего и
мать твою, чтобы
продлились дни
твои на земле,
которую Господь,
Бог твой, даёт
тебе.
Исход,
глава 20
Фрагменты
повести
Мне
было четыре с
половиной
года, когда
началась
война.
Поезд
уже тронулся;
отец на бегу
успел подсадить
и втолкнуть
маму и меня в
набиравший
скорость товарный
вагон; узел с
вещами
остался у
отца в руке. Я
запомнил
растерянную
удаляющуюся
фигуру на
перроне.
Их вэл
айх гефинен!*
кричал отец,
и мама в ответ
кивала и
плакала,
кивала и
плакала.
* их вэл
айх гефинен! (идиш)
я вас разыщу!
Тут
заплакал и я.
Заплакал не
из-за
расставания
с отцом и не
потому, что
идёт война и
никто не
знает, что
будет с
каждым из нас
и со всеми
нами.
Шарик!
закричал я.
Мы забыли
Шарика!
Шарик,
белый
остроухий
шпиц, наш пёс,
мой самый
большой друг,
мы уехали
может быть,
надолго,
может быть,
навсегда и
забыли
Шарика!.. Это
было первым
моим огромным,
настоящим
моим горем.
Мы с
мамой
добрались до
Южного Урала
и поселились
в Троицке, на
топчане у
Дарьи Никандровны
Монетовой.
Там вскоре
отец и нашёл
нас (как? в
толчее
эвакуации! в
великом
переселении
народа! как?!)
Нашёл, обнял,
расцеловал и
через
несколько
дней получил
призывную
повестку на
фронт.
Отец
был
кавалеристом.
Вернее, он
был военным
радистом,
приписанным
к кавалерии.
Потом всех
боевых коней
съели, кавалерия
спешилась, и
отец стал
радистом
пехотным.
 Запомнилась
дата 2
августа 1941
года. В этот
день отец
приехал
прощаться. Он
был очень
красив
высокий, мускулистый,
загорелый,
стройный,
широкоплечий
и широкогрудый,
чёрные глаза,
чёрные брови,
правда, чёрные
волосы
по-солдатски
острижены, и
незагорелая
кожа
блестела,
словно на
голову надета
белая
ермолка.
Запомнилась
дата 2
августа 1941
года. В этот
день отец
приехал
прощаться. Он
был очень
красив
высокий, мускулистый,
загорелый,
стройный,
широкоплечий
и широкогрудый,
чёрные глаза,
чёрные брови,
правда, чёрные
волосы
по-солдатски
острижены, и
незагорелая
кожа
блестела,
словно на
голову надета
белая
ермолка.
Отец с
детства
любил
лошадей. Он
въехал во двор
на
тёмнорыжем
красавце-коне,
мы с мамой вышли
на высокое
крыльцо, и я
залюбовался
представшей
перед нами
скульптурной
группой
"Всадник-красноармеец
на боевом
коне перед
отправкой на
фронт. 1941."
Они,
конь и
всадник, друг
без друга не
существовали,
они были
продолжением
один другого.
Грациозно
восседавший
в седле отец
подгарцевал
к крыльцу,
протянул руки,
крепко ухватил
меня под
мышки,
приподнял и
посадил впереди
себя. Я помню
непривычное,
прежде не испытанное
ощущение:
конь
переминался
с ноги на ногу,
и я чувствовал
под собой
перекатывание
его мышц и
костей, его дыхание,
и даже кожа
его подо мною
вздрагивала
и передёргивалась,
когда конь
хвостом и
мордой
отмахивался
от ос и
слепней.
Потом
потянулись
годы, военные
годы, больше
четырёх лет
ожидания
мятых,
заляпанных дождями
и талым
снегом
треугольничков
с обратным
адресом полевой
почты и с расплывшимися,
порой неразборчивыми
фиолетовыми
буквами, выведенными
химическим
карандашом. С
течением
времени отец
из живого,
знакомого и
родного
превращался
в понятие,
образ,
персонаж
семейного
фольклора,
устных
преданий,
вроде Ильи
Муромца, побеждающего
на поле брани
лютых врагов
вероломного
Татарина и
коварного Соловья-разбойника.
На
войну отец
ушёл в
тридцать три
года, вернулся
тридцатисемилетним.
Правда,
до этой
Великой
отечественной
войны было
ещё
"освобождение
Западной Украины
и Западной
Белоруссии"
в тридцать девятом,
и была "Финская
кампания" в
сороковом, и
были
ежегодные
военные
сборы и учения,
была война
длиною в
жизнь.
И
потом, после
великой
Победы, тоже
была война
за
человеческое
достоинство,
просто за
право
оставаться
человеком.
Оглянувшись
на прожитые годы,
я с
удивлением
обнаруживаю,
что вся жизнь
моих родителей
прошла в
заботах о
жилье.
 До
войны в
Казатине
отец
построил дом.
Из него мы
уехали в
эвакуацию,
отца взяли на
фронт, а наш
дом разграбили
соседи.
До
войны в
Казатине
отец
построил дом.
Из него мы
уехали в
эвакуацию,
отца взяли на
фронт, а наш
дом разграбили
соседи.
В
Троицке мама
со мной
поселилась
на топчане у Дарьи
Никандровны
Монетовой.
Было это в
июле сорок
первого.
Летом сорок
пятого мы
переехали в
отделённый
листом
фанеры
закуток в доме
Тарасенковых,
туда вернулся
с фронта
отец.
В
Казатин мы не
вернулись,
отец не захотел.
"Мэ hот дортн
дерhаргет асах
йидн,"*
сказал он и
остался на
Урале.
* "Мэ hот
дортн дерhаргет
асах йидн." (идиш)
"Там убили
много евреев."
Места
для троих в
закутке у
Тарасенковых
не было. На
этом наши
скитания по
частным домам
и квартирам закончились.
Мы начали
осваивать
казённый сектор.
Первое
послевоенное
местожительство
предоставили
отцу как
демобилизованному
фронтовику в
складском
полуподвале
железнодорожного
училища
отец начал
работать
помощником
старшего
бухгалтера в
системе
"Трудовых
Резервов".
Весной,
летом и
осенью наш
полуподвал
заливали
грунтовые
воды. Спасением
была зима:
вода
застывала, а
лёд под
досками пола
был не так
страшен.
В
сорок
седьмом
приказом по
областному
управлению
"Трудовых
Резервов"
отца перевели
в
ремесленное
училище на
должность старшего
бухгалтера
"с предоставлением
жилплощади
по месту
работы".
Длинное
одноэтажное
здание
ремесленного
училища было
когда-то городскими
конюшнями; в
них в начале
войны
формировалась
кавалерийская
часть, в
которую
призвали отца.
Четырёхметровая
подсобка в
этой конюшне
(два-на-два) и
стала новым
местом
нашего
проживания.
Спали мы на
полу,
застилаемом
на ночь матрацем,
набитым
соломой, для
койки или
топчана
места в
комнате не  было.
Ели мы по
очереди,
присев перед
тумбочкой на
табуретку.
Там же я готовил
уроки. На
этой же
тумбочке на
электрической
плитке варили
пищу и кипятили
чайник. По
вечерам мама
устанавливала
на тумбочку
швейную машинку
"Edelweiß",
привезённую
отцом из Германии,
и шила. Она
всегда
что-нибудь
шила, мы никогда
не покупали
готовую одежду,
кроме,
пожалуй,
обуви, зимних
шапок, чулок
и носков; всё,
от трусов и
маек до кепок
и тюбетеек,
утеплённых
варежек,
демисезонных
и зимних
пальто, всё
мама шила или
перешивала из
старого сама.
было.
Ели мы по
очереди,
присев перед
тумбочкой на
табуретку.
Там же я готовил
уроки. На
этой же
тумбочке на
электрической
плитке варили
пищу и кипятили
чайник. По
вечерам мама
устанавливала
на тумбочку
швейную машинку
"Edelweiß",
привезённую
отцом из Германии,
и шила. Она
всегда
что-нибудь
шила, мы никогда
не покупали
готовую одежду,
кроме,
пожалуй,
обуви, зимних
шапок, чулок
и носков; всё,
от трусов и
маек до кепок
и тюбетеек,
утеплённых
варежек,
демисезонных
и зимних
пальто, всё
мама шила или
перешивала из
старого сама.
 В
конце лета
сорок девятого
года, опять
приказом по
"Трудовым
Резервам",
опять "с предоставлением
по месту
работы", отца
перевели в
Копейск. Нам
была дарована
двухкомнатная
квартира "со
всеми удобствами"
в помещении ремесленного
училища, где
отец опять
стал старшим
бухгалтером.
В
конце лета
сорок девятого
года, опять
приказом по
"Трудовым
Резервам",
опять "с предоставлением
по месту
работы", отца
перевели в
Копейск. Нам
была дарована
двухкомнатная
квартира "со
всеми удобствами"
в помещении ремесленного
училища, где
отец опять
стал старшим
бухгалтером.
Теперь
каждый вечер
мы купались в
ванне! Каждое
утро умывались
водой,
вытекавшей
из крана!
Каждую ночь мы
посещали
собственный
туалет, и не было
надобности
напяливать
на себя пимы,
шубу и
меховую
шапку. Вот
так просто в
одних трусах
заходили в
тёплую
уборную,
вершили свои
неотложные дела,
дёргали за
верёвочку и
под весёлое
журчание
сбегавшей
воды возвращались
в собственную
постель я и
родители в
разных комнатах!
Ах,
какое
счастье!
Ох,
какое
недолгое
счастье
Наша
новая квартира
понравилась
городскому
прокурору, у которого
квартиры не
было, он с
семьёй жил в
коммуналке
коридорного
типа, в одной
комнате. А
прокурор мечтал
об отдельной
квартире.
И нас
выселили.
Накануне
праздника
Октябрьской
революции к
нам явились
милиционеры
с
прокурорским
ордером,
вынесли наши вещи
на первый
девственно
белый снег и
опечатали квартиру.
Официальным
основанием
выселения
стало
решение
государственной
приёмной
комиссии,
возглавляемой
тем же прокурором:
строение не
готово к
эксплуатации,
так как в
одной из
классных комнат
училища под
потолком
отсутствует
патрон
Зиму
сорок
девятого-пятидесятого
годов мы
перекантовались
в проходной
комнатушке
неблагоустроенного
мужского
общежития.
Следующую
зиму тоже. И следующую
и следующую
всё там же.
Временное
жильё надолго
стало
постоянным.
Тем
временем я
вырос,
закончил
школу, уехал в
Свердловск,
там женился,
у меня родился
сын, потом
ещё сын, я
очень любил
моих сыновей,
и, заботясь о
них, об их
здоровье и
благополучии,
начал
совершать
собственные
квартирные
круги в
пределах ада,
носившего гордое
название
"Союз
Советских
Социалистических
Республик",
сокращённо
СССР.
Помню
песенку из
моего
далёкого
детства:
"Сталинской
улыбкою
согрета,
Радуется
наша
детвора."
К
счастью,
ТАКИЕ
песенки моим
детям петь не
довелось.
Вспоминаю
наш сырой
полуподвал
1945-1947 годов. В большом
складском
помещении фанерной
перегородкой
отгородили
закуток, отец
втащил туда
две койки,
тумбочку и
три табуретки,
так мы и жили.
Папа,
рассказывай,
просил я по
вечерам, а отец
строго
спрашивал:
Уроки
приготовил?
Приготовил.
Покажи
дневник.
В
дневнике
стояли
пятёрки. В
младших
классах я
учился
хорошо.
Отец
стаскивал
сапоги,
разматывал
портянки и
ложился на
кровать, я пристраивался
рядом с ним.
В
отцовских
военных
рассказах не
было ни подвигов,
ни особого
героизма, не
было возгласов
"За Родину! За
Сталина!"
Война представлялась
будничной и
почти
нестрашной.
Спускается к
нам в
землянку
Гришка
Проценко,
тычет в меня
стволом: "К
командиру
полка!"
Вбегаю, "по
вашему
приказанию
рядовой
" "Отставить!
Скажи, ты
еврейский
язык знаешь?"
"Так точно,
знаю, товарищ
командир". "А
с немцем
договориться
сумеешь?"
"Так точно,
сумею,
товарищ
командир". "Вот
и
договаривайся!"
Смотрю,
в углу прямо
на полу сидит
немецкий солдат,
перепуганный,
трясётся,
гимнастёрка
разорвана, в
крови, морда
в синяках, наши,
видно,
постарались,
поработали с
немцем, когда
в плен брали.
Я только рот
раскрыл, а он
мне
по-еврейски:
"Зайнт ир
аид?" "Йо, х'бын
аид."* Он
заплакал: "Ун
их ойхет бын
аид."** Я не
поверил,
спрашиваю:
"Эйбэр ди
быст аид, вус
же тистэ ин
ди дайчишэ
армэйе?"*** Он
оказался евреем
из Трансильвании,
там евреи
разговаривали
и
по-румынски,
и
по-венгерски,
и по-немецки,
и
по-еврейски,
даже немножко
по-украински
и по-сербски.
* "Зайнт
ир аид?" "Йо,
х'бын аид." (идиш)
"Вы еврей?"
"Да, я еврей».
** "Ун их
ойхет бын
аид." (идиш) "И
я тоже еврей."
*** "Эйбэр
ди быст аид,
вус же тистэ
ин ди дайчишэ
армэйе?" (идиш)
"Если ты
еврей, что же
ты делаешь в
немецкой
армии?"
Отец
повернулся
на бок,
опёрся
локтем в подушку,
положил щеку
на кулак.
Не
спишь?
Не
сплю,
рассказывай.
Как он
оказался на
линии фронта,
он и сам
понятия не
имел. Куда-то
пробирался,
всех боялся,
даже
собственной
тени боялся,
прятался
Снял форму с
убитого
немецкого солдата
и решил
добраться до
Красной
Армии, сдаться
в плен. Сидит
в кустах,
трясётся, а
тут наши
идут, тихо
по-русски
разговаривают.
Он
обрадовался,
выскочил с
поднятыми руками,
кричит:
"Гитлер
капут!" Его
повалили, избили,
связали и
доставили к
командиру полка:
"языка",
говорят,
привели. Я
пересказал всю
эту мансу
командиру, а
он
недовольный,
ворчит: "Тоже
мне "язык"
еврей
недобитый!"
Пленный
смотрит на
меня, просит:
"Их бын аид,
от аф мир
рахмунес."* Ну
вот
Отец
помолчал,
потёр
тыльной
стороной ладони
глаза.
"На
кой хрен он
мне сдался?
говорит
командир. В
расход его!"
Гришка
Проценко
руку "под
козырёк":
"Есть в
расход,
товарищ командир!"
каблуками
притопнул и к
пленному:
"Хэндеэ хох!"**
Тот поднялся,
идёт, на меня
оглядывается
и шепчет:
"Шма, Исрóэл
"
Это
по-древнееврейски,
молитва
такая: "Услышь
меня,
Израиль". А
кто его тут
услышит!.. Гришка
ему
прикладом
между
лопаток со
всей силы: "Не
разговаривать,
жидивско
отродье!" Я
говорю командиру:
"Разрешите
обратиться,
товарищ командир",
а он мне:
"Отставить!"
И Гришке:
"Выполняйте
приказ!" Ну
вот
* "Их бын
аид, от аф мир
рахмунес." (идиш)
"Я еврей,
сжальтесь
надо мной."
** "Хэндэ
хох!" (нем.)
"Руки вверх!"
Отец
опять
замолчал,
сел, снова
повздыхал и потёр
глаза, потом
тихо закончил:
Вывел
его Гришка и
тут же, в двух
шагах от штаба
и расстрелял
Кругом лес,
красота,
птицы поют.
Гришка и по
птицам
несколько
раз пальнул.
Не попал,
наверно.
Птицы что,
птицы
поднялись и
улетели. А
еврею как
подняться, куда
податься? Там
немцы, тут русские
Говорят "лес
рубят, щепки
летят". Я даже
не знаю, как
его звали
В
Троицке, в
сорок
седьмом или в
сорок
восьмом году,
папа и мама
подружились
с Фарбманами.
Тётя Соня и
дядя Лёва были
старше моих
родителей, а
их дочь Дора
моложе.
Старшие
Фарбманы,
родом из
Белоруссии, уже
много-много
лет жили в
Троицке,
приехали туда
в
незапамятные
времена, задолго
до войны. Их
быт и образ
жизни свидетельствовали
о том, что
людьми они
были состоятельными
когда-то в
стародавние
времена.
 Дядя
Лёва был
известным в городе
парикмахером.
Нет, сказать,
что он был
парикмахером,
это не
сказать о нём
ничего. Дядя
Лёва был
Парикмахером,
Мастером, Maestro! Он
принимал в
своё кресло
клиента,
пеленал его,
колдовал над
его головой,
менял
ножницы,
машинки,
расчёски, обмахивал
его полотенцами
с одной
стороны, затем
с другой,
наклоняя при
этом свою
голову то вправо,
то влево, отряхивал
с его шеи и
ушей волосы,
прищуривался,
примерялся и
опять
чик-чирикал
ножницами то
над его
правым, то
над его левым
ухом. Клиент
выходил от
дяди Лёвы
красавцем,
кинозвездой,
очередь к
парикмахеру
заказывалась
загодя, а
городское
начальство, партийные
чиновники и
высшие военные
чины ни у
кого другого
не
подстригались
и не брились.
Дядя
Лёва был
известным в городе
парикмахером.
Нет, сказать,
что он был
парикмахером,
это не
сказать о нём
ничего. Дядя
Лёва был
Парикмахером,
Мастером, Maestro! Он
принимал в
своё кресло
клиента,
пеленал его,
колдовал над
его головой,
менял
ножницы,
машинки,
расчёски, обмахивал
его полотенцами
с одной
стороны, затем
с другой,
наклоняя при
этом свою
голову то вправо,
то влево, отряхивал
с его шеи и
ушей волосы,
прищуривался,
примерялся и
опять
чик-чирикал
ножницами то
над его
правым, то
над его левым
ухом. Клиент
выходил от
дяди Лёвы
красавцем,
кинозвездой,
очередь к
парикмахеру
заказывалась
загодя, а
городское
начальство, партийные
чиновники и
высшие военные
чины ни у
кого другого
не
подстригались
и не брились.
Было в
Троицке
училище ВВС
ещё с военных
времён.
Молоденькие
курсанты,
мечта
местных барышень,
дефилировали
по улицам в
форменных
мундирах,
вызывая
зависть, а
порой и неприязнь
мужской
половины
городского
населения.
Имелась
у училища
футбольная
команда. Случилось
однажды, что
эта команда
проиграла с
разгромным
счётом
какой-то
другой городской
команде, и
стадион (или
часть болельщиков)
принял
результат
матча гулом одобрения.
Счёт был
ошеломительный.
Тёплым
летним
вечером,
когда
сидению по домам
народонаселение
предпочитало
гуляние в
городском
парке,
курсанты
организованными
колоннами вышли
из своих
казарм, дошли
до парка и
рассредоточились
на две
группы. Одна
плотным кордоном
окружила
территорию, а
вторая вошла
внутрь;
курсанты
сняли с себя
форменные
ремни с
массивными
металлическими
пряжками и стали
избивать
гуляющих,
безжалостно
калеча и
увеча их в
надежде, что
среди
пострадавших
окажутся и
те, кто так
недоброжелательно
отнёсся к их
футбольной
команде.
Недобитых
добивали,
добитых сбрасывали
в фонтан,
который к концу
побоища
оказался
переполненным.
Наутро
событие в
заштатном
Троицке
превратилось
в ЧП
всесоюзного
значения. В город
прибыли
представители
и
следователи Военного
Трибунала и
Главной
военной прокуратуры
страны, из
штаба
Уральского
Военного
округа прилетела
комиссия во
главе с командующим,
попавшим в
немилость и
сосланным в
глушь героем
войны
Маршалом
Советского
Союза
Георгием
Константиновичем
Жуковым.
Естественно,
город
наполнился
высшими
офицерами в
военном и в
штатском.
Самым
занятым в
городе
человеком
оказался
дядя Лёва.
Вся
прибывшая в
Троицк командная
военная
элита
привыкла
ежедневно
бриться и
подстригаться
и не просто у
кого попало,
а у лучших, у
своих, у
проверенных
и испытанных
парикмахеров.
В Троицке выбора
не было, на
весь город
был один дядя
Лёва.
Мастер
прекратил
приём
посетителей.
Пока шло
следствие, с
утра до
вечера он
обслуживал
маршала,
генералов,
полковников
и, может быть,
отдельных
подполковников.
Вечером дядя
Лёва
возвращался
домой и без
сил валился с
ног.
 Был ли
он счастлив?
Не знаю, не
думаю. Он
много лет
прожил в
стране, где
все равны и
счастливы, и
хорошо знал,
чего стоят в
ней "и барский
гнев, и барская
любовь",
легко переходящие
друг в друга.
Был ли
он счастлив?
Не знаю, не
думаю. Он
много лет
прожил в
стране, где
все равны и
счастливы, и
хорошо знал,
чего стоят в
ней "и барский
гнев, и барская
любовь",
легко переходящие
друг в друга.
А
жизнь текла
своим
чередом. Дора
тем временем
познакомилась
с заезжим
офицером, военным
врачом из Благовещенска-на-Амуре
Аликом
Кляцкиным,
мать
которого
жила в
Троицке, а он
приехал в отпуск
её
навестить.
Алик
родился в
США. Когда он
был ещё ребёнком,
мать
затосковала
по покинутой
родине и,
оставив мужа
доживать в
одиночестве
свои дни в
цитадели мирового
капитализма,
где человек
человеку
волк,
вернулась в
страну мира и
социализма, в
которой,
напротив, человек
человеку
друг, товарищ
и брат. Алик, формально
являвшийся
гражданином
Соединённых
Штатов
Америки, вырос
вполне
советским
гражданином.
Какой
красивой
парой они
были! Я думаю,
что счастливы
были все: и брачующиеся
(да-да,
конечно, была
свадьба!), и
родители, и
знакомые и
друзья
почти все
троицкие
евреи. Был
лишь один
несчастный
я. Папа
сказал:
Десятилетнему
(может быть,
одиннадцати
или
двенадцатилетнему,
не помню)
мальчику
неприлично
идти на
свадьбу, где
будут только
взрослые.
И меня
на свадьбу не
взяли.
Цветными
карандашами
я нарисовал
поздравительное
послание,
изобразив
буквы в форме
человечков с
поднятыми
бокалами, и,
зарёваный,
остался дома.
А
молодожёны
сели после
свадьбы в
поезд, который
издал
прощальный
гудок и увёз
их к высоким
берегам
Амура, где
часовые
родины стоят.
Ночью
кто-то
постучал в
окно.  Отец
поднялся с
пола (в нашей
четырёхметровой
ведомственной
комнатушке
мы, мама, папа
и я, спали на
полу,
прижавшись
друг к другу),
вгляделся в
заоконную
тьму. О чём-то
спросил, выслушал
ответ, оделся
и вышел.
Отец
поднялся с
пола (в нашей
четырёхметровой
ведомственной
комнатушке
мы, мама, папа
и я, спали на
полу,
прижавшись
друг к другу),
вгляделся в
заоконную
тьму. О чём-то
спросил, выслушал
ответ, оделся
и вышел.
Это я
помню.
Остальное мама
рассказала
мне уже в
Израиле
после смерти
отца.
Товарищ
из НКВД своим
ключом
открыл красный
уголок училища,
включил свет,
сел.
Садитесь,
располагайтесь,
это надолго,
сказал он
отцу.
Темой
беседы были
враги нашей
страны. Их много,
они мечтают
уничтожить
завоевания
Октября, и
долг каждого
советского
человека
бдеть и вести
непримиримую
борьбу с
этими
врагами.
Вот вы
дружите с
семьёй
Фарбманов. Мы
ничего не
имеем против
этой дружбы,
сказал энкавэдэшник.
Даже
наоборот,
приветствуем.
Продолжайте.
Но подумайте
сами: глава
семьи
мелкий
ремесленник.
Их сословие
никогда не
мирилось с советской
властью, она
противна их
сути, они индивидуалисты,
частники. А
ведь Фарбман
обслуживает
партийных
работников,
офицеров
Советской
армии. Он
беседует с
ними, что-то
выпытывает,
думает,
анализирует,
сопоставляет.
Вы не
находите, что
в результате
он
становится
обладателем
важных государственных
секретов?
Вот,
например, он
обслуживал
товарища
Жукова. Ведь
о чём-то они
беседовали?
Не молча же
парикмахер
работал? Вспомните,
чтó он вам
рассказывал
о контактах с
товарищем
Жуковым? Это очень-очень
важно.
Отец,
конечно,
клялся и
божился, что
никаких
разговоров
"с товарищем
Фарбманом" о
Маршале
Советского
Союза
товарище
Жукове не вёл,
но убедить
ночного
визитёра ему
не удалось.
Беседа
плавно
перешла на
"мужа дочери
гражданина
Фарбмана"
Доры Львовны,
на его
американское
происхождение.
"А ведь он
служит в
очень чувствительной
для нашей страны
точке, в
Благовещенске-на-Амуре",
подчеркнул
гость. "Его
туда
послали",
возразил отец.
"Послать-то
послали, но
ведь никто
тогда не
знал, что он
вступит в
связь с Дорой
Львовной
Фарбман".
Я не
ручаюсь, что
были
произнесены
именно эти
слова, да и
встреча была
не одна, их
было много
всегда по
ночам: тихий
стук в окно,
отец вставал,
одевался и
выходил. Возвращался
он мрачный,
стал
молчаливым, и
вот тогда-то
он начал,
срочно начал
искать
возможность
покинуть
Троицк. И мы
уехали в Копейск.
Было это
осенью 1949 года.
Отца
не
беспокоили
до 1953 года, до
"дела врачей".
Потом
пригласили.
Начальником
Копейского
КГБ (вернее,
кажется, МГБ,
тогда
названия
ведомства и
его высшие
руководители
менялись часто)
был
Александр
Романович Левитан.
Позднее,
когда его
"вышли в
отставку" и
отправили на
пенсию, стал
он отпетым
антисоветчиком,
в открытую
поносил родную
власть с её
партией и
правительством.
Мои
родители
водили
компанию с
Иосифом Павловичем
Тюкиным-Косым
и его женой
Викторией
Петровной.
Интересная
была семья:
до революции
в
большевистском
подполье
(Тюкин это
фамилия, а
Косой
партийная
кличка) оба были
приятелями и
соратниками
Полины Перльштейн-Жемчужной,
впоследствии
вышедшей
замуж за
верного ленинца-сталинца
Вячеслава
Михайловича
Скрябина
(Молотова).
Уже будучи
супругой
видного, даже
выдающегося
советского партийного
и
государственного
деятеля, твердокаменная
большевичка
Полина
благополучно
отсидела
положенный
срок по
обвинению в
сионизме, в
то время как
благоверный
преступницы-"сионистки"
исправно
исполнял обязанности
министра
иностранных
дел Страны
Советов и
даже служил
заместителем
Председателя
Совета
министров
СССР
Генералиссимуса
И.В.Сталина.
Такие были
сказочные
времена, в такой
чудесной
стране мы
жили
Иосиф
Павлович
Тюкин-Косой
тоже отмотал,
разумеется,
свою
собственную
десятку с
тридцать
седьмого по
сорок
седьмой, а
Виктория
Петровна, поспешив
восстановить
в качестве
фамилии свою
былую
партийную
кличку Петровская,
была
освобождённым
секретарём
парткома на
заводе
горного
машиностроения
имени
С.М.Кирова и
воспитывала
свою с
Иосифом
Павловичем
дочь,
носившую уникальное
и
экзотическое
имя Дзеста (сокращение
от
Дзержинский-Сталин).
После освобождения
Иосиф
Павлович
воссоединился
с семьёй в
Копейске;
после
двадцатого
съезда его
восстановили
в партии,
вернули
диплом, и стали
они с
Викторией
Петровной
махровыми сталинистами,
а потом
переметнулись
к Мао. Они
ездили в
Китай, их
квартира
украсилась
раскосыми
портретами
"верного
ленинца-сталинца",
с потолка
свисали
вычурные фонариками
тоже с
изображениями
Мао Цзе-дуна.
И вот
недавний зэк
(реабилитированный
и восстановленный)
и его
партийная
жена завели
дружбу с
разжалованным
гэбистом
Левитаном.
Образовалась
такая
странная
пенсионерская
партячейка.
Друзья
вместе
проводили
вечера в
жестоких и
бескомпромиссных
идеологических
схватках:
Тюкины-Косые-Петровские
доказывали
Левитану
великую правоту
всепобеждающего
Учения
МарксаЭнгельсаЛенинаСталинаМао
Цзе-дуна, а
Александр
Романовича
без всякого
стеснения крыл
то же самое
бессмертное
Учение многоярусным
матом. Я был
уже взрослым
вьюношей, и
мне изредка
доводилось
присутствовать
при яростной
полемике
двух непримиримых
идеологических
противников.
А во
время "дела
врачей"
полковник
Левитан
возглавлял
Копейское
отделение
органов
государственной
безопасности.
Отца
вызвал,
конечно, не
он, беседовал
с отцом
какой-то
лейтенант.
Офицер-чекист
заверил
"товарища
Войтовецкого",
что органы
ему доверяют,
считают честным
советским
гражданином
и надеются на
его помощь.
Лейтенант
поручил отцу
познакомиться
и близко
сойтись с
диспетчером
железнодорожной
станции
Гринфельдом,
польским
евреем, "а вы
знаете, чтó
это за публика,
кáк они ненавидят
нашу страну,
спасшую их от
фашизма". "Особенно
теперь, когда
мировой
империализм
делает
ставку на
националистически
настроенных
лиц
еврейской
национальности",
добавил
лейтенант.
По
маминому
рассказу,
отец
познакомился
с Гринфельдом,
наскоро
спровоцировал
какую-то
мелкую ссору
и доложил
своему опекуну,
что дружба не
состоялась.
(В скобках
отмечу, что
все годы жизни
в Копейске
после 1953 года
мои родители
избегали эту
семью, хотя
время от
времени они у
кого-то
случайно
встречались,
я даже несколько
раз видел
дочь
Гринфельда,
девочку на
пару лет
моложе меня.)
Что же
вы так,
товарищ
Войтовецкий!
посетовал
гэбист,
выслушав
рассказ отца
о ссоре. А
мы-то на вас
Вдруг
он обратился
к отцу со
странной
просьбой:
Расскажите
немножко о
себе, а то мы
уже столько
раз
беседовали, а
я о вас ничего
не знаю.
"Ну-ну,
мели, Емеля,"
подумал отец,
но рассказывать
стал.
Родился я на
Украине,
еврей по
национальности,
старшая
сестра моя
живёт в
Алма-Ате, брат
погиб на
фронте.
Да
бросьте вы!
прервал отца
чекист. Где
вы видели,
чтобы евреи
воевали?
Отец
встал из-за
стола и вышел
из кабинета.
Войтовецкий,
вернитесь!
закричал
вслед отцу
лейтенант.
Постовой
у двери
потребовал
подписанный пропуск,
у отца
такового,
естественно,
не было.
Вернитесь и
принесите
подписанный
пропуск,
потребовал
постовой.
Отец заупрямился.
Пришёл
Левитан.
В чём
дело?
спросил он.
Отец
пересказал
содержание
беседы с
лейтенантом.
Пропустите,
приказал
полковник.
Больше
отца не
вызывали.
Вскоре
умер Сталин.
Это случилось
в еврейский
праздник
Пурим.
Спустя
много лет я
так написал о
смерти Сталина.
2
марта 1953 года*
Я
помню этот
день и этот
год,
я
помню
скорбный
голос
Левитана**,
я
помню: мама
усмехнулась
странно
и тихо
обронила: "данкен Гот"***
На
всей планете
скорбно выл
эфир,
над
крышами
Шопен кружил
упрямо.
Как
заблуждался
безутешный
мир!..
А " данкен Гот "
сказала
только мама.
* В этот
день по радио
сообщили о
болезни Сталина.
** Левитан
естественно,
не копейский
Александр
Романович, а
всесоюзный
Юрий Борисович.
*** "данкен
Гот" (идиш) "благодарение
Богу".
Моей
маме было за
что
благодарить
Бога.
Несколько
лет назад мне
в Беэр-Шеву
позвонила
женщина.
Я
читала ваши
рассказы,
сказала она
мне. А в
детстве я
была с вами немного
знакома.
Оказалось,
что она
приехала в
Израиль из
Копейска.
Кто вы?
заинтересовался
я.
Моя
девичья
фамилия
Гринфельд,
ответила женщина.
Мой папа был
знаком с вашим
отцом
Да, я
знаю,
замялся я.
Они чуть не
подружились,
но дружба не
получилась.
Да-да,
мой папа
избегал
вашего отца.
Ведь во время
"дела
врачей" его
вызывали в органы
и требовали,
чтобы он
доносил на
вашего отца.
И тогда папа
сделал так,
чтобы вышла
ссора, чтобы
не получилось
дружбы. Папа
не хотел быть
доносчиком.
Ну, вот,
кольцо и
замкнулось
Заниматься
радиотехникой
я мечтал с
детства, с
того далёкого
детства, в
котором отец,
вернувшийся
с войны, стал
делиться со
мной
историями из
своей
фронтовой
жизни.
Папа,
рассказывай,
просил я.
Уроки
приготовил?
Приготовил.
Покажи
дневник.
Отец
стянул сапоги,
размотал
портянки и
лёг на
кровать, я пристроился
рядом с ним.
Я
любил
работать с
микрофоном,
начал отец. Но
на коротких
волнах много
помех,
приходилось
переходить
на ключ. Вот,
послушай.
Отец
взял
флакончик
из-под ушных
капель я часто
болел простудами,
ушные капли в
доме не
переводились,
пристроил
горлышко к
губам и,
выдувая
воздух, стал
насвистывать
азбуку Морзе:
Вот
это
фьюйть-фьюииить
это "а". А вот
это фьюииить-фьюйть-фьюйть-фьюйть
"б", а вот это
выводил он
точки-тире-тире-точки
и называл
буквы. Но
если начнёшь
в полевых
условиях
считать
точки и тире,
запутаешься
и ничего не
прочитаешь.
Для радиста
азбука Морзе
музыка.
Музыка
играет, а
радист по ней
читает
донесение.
По
ночам я
фантазировал.
То ли в бреду,
то ли в
полусне я
видел, как в
кадрах
кинохроники,
широкое
снежное поле,
рвутся
снаряды, а
мой отец
сидит в окопе
в белом
маскхалате и
то слушает,
то сам
высвистывает
еврейские
мелодии. Потом
он приходит к
товарищу
Сталину и
насвистывает
эти мелодии
ему, Верховному
Главнокомандующему.
Спасибо,
товарищ
Войтовецкий,
говорит товарищ
Сталин,
пожимает отцовскую
руку, снимает
с аппарата
телефонную
трубку и свистит
в неё песню, услышанную
от отца,
обычно это
"Ицик hот шойн
хасэнэ геhат"
или "Ойфн
припэчэк
брэнт
афайэрл". В бой
за Родину, в
бой за
Сталина,
отдаёт приказ
Верховный
Главнокомандующий,
и наши силы
переходят в
стремительное
наступление.
Лётчики за
штурвалами
самолётов, танкисты
в танковых
башнях,
красные
конники-будёновцы
на лихих
конях все
свистят те песни,
которые
принёс товарищу
Сталину мой
отец, и
побеждают.
"Ицик hот шойн
хасэнэ геhат!" победно
звучат в моём
сне слова
старой еврейской
песни. "Ицик
уже женился!"
 В
конце войны
появились
радиостанции
УКВ,
рассказывал
отец. В старых
радиостанциях,
на коротких
волнах, что
было главное?
Главное было
повыше
забросить
антенну. На
крышу дома,
на дерево.
Чем выше
антенна, тем
лучше связь.
Если сели
батареи, разворачиваешь
солдат-мотор.
Сажаешь солдата,
как на
велосипед, он
крутит
педали, мотор
жужжит, и
радиостанция
работает. Без
питания связи
нет. Солдата
без питания
можно послать
в бой, а радиостанцию
ни за что, ей
подавай
питание. В
УКВ там не
антенну нужно
забрасывать
повыше, а самому
с
радиостанцией
повыше
залезть.
Сидишь на
дереве, на самой
макушке,
дерево
качается,
вокруг
обстрел, а ты
кричишь
абоненту: "Ты
меня видишь? "
"Вижу!" "Ты
меня слышишь?"
"Нет, не слышу!.."
УКВ работает
в пределах
прямой
видимости.
Если между радиостанциями
дерево или
дом, связи
нет.
В
конце войны
появились
радиостанции
УКВ,
рассказывал
отец. В старых
радиостанциях,
на коротких
волнах, что
было главное?
Главное было
повыше
забросить
антенну. На
крышу дома,
на дерево.
Чем выше
антенна, тем
лучше связь.
Если сели
батареи, разворачиваешь
солдат-мотор.
Сажаешь солдата,
как на
велосипед, он
крутит
педали, мотор
жужжит, и
радиостанция
работает. Без
питания связи
нет. Солдата
без питания
можно послать
в бой, а радиостанцию
ни за что, ей
подавай
питание. В
УКВ там не
антенну нужно
забрасывать
повыше, а самому
с
радиостанцией
повыше
залезть.
Сидишь на
дереве, на самой
макушке,
дерево
качается,
вокруг
обстрел, а ты
кричишь
абоненту: "Ты
меня видишь? "
"Вижу!" "Ты
меня слышишь?"
"Нет, не слышу!.."
УКВ работает
в пределах
прямой
видимости.
Если между радиостанциями
дерево или
дом, связи
нет.
По
вечерам,
когда из
училища, в
котором
работал отец
и в котором
мы занимали
жилплощадь в
складском
полуподвале,
все
сотрудники
расходились
по домам,
отец отпирал
красный
уголок. Там
было радио,
обычная
городская
радиоточка. Я
пристраивался
у батареи
центрального
отопления и,
затаив дыхание,
слушал
передачу
"Театр у
микрофона". Помнится,
такие
программы
бывали по
радио почти
ежевечерне. Я
переслушал
всю русскую
классику в основном
А.Н.Островского
в
исполнении
артистов
Малого
театра,
советский
революционный
репертуар
"Любовь Яровую",
"Оптимистическую
трагедию",
"Гибель эскадры"
их записывали
со сцены
МХАТа.
Отцы
моих
школьных
товарищей
возвращались
с фронта с
трофеями с радиоприёмниками
Telefunken и Blaupunkt. Дядя
Яша, муж
маминой
сестры, привёз
два
приёмника. Я
приходил к тётке
и
благоговейно
замирал на
несколько часов
около
говорящего
ящика. В моей
душе зародилась
мечта.
Году в
пятидесятом
ей суждено
было осуществиться.
С
детства я
сочинял
стихи. Нет,
теперь-то я понимаю,
что
рифмачество,
которым я занимался,
поэзией не
было, но
тогда
По
всему миру
шла борьба за
мир.
Американские
империалисты
рвались к
мировому
господству, в
разных
концах
планеты
вспыхивали национально-освободительные
войны, и, естественно,
Советский
Союз, оплот
мира и демократии
во всём мире,
сочувствовал
и в меру сил
помогал
угнетённым
народам. Я, юный
пионер-ленинец,
настоящий
советский патриот,
был вместе с
моей страной,
с моим народом.
И я сочинил
стихотворение.
К стыду и
сожалению, я
и теперь
помню его
полностью.
Кто
будет вести
ваши танки?
Кто
пустит на
город снаряд?
Очнитесь,
опомнитесь,
янки!
Народы
войны не
хотят!
Народы
всех стран
подписали
Воззвание
против войны,
А вы
вероломно
напали
На
земли
свободной
страны.
От
войн в
Уолл-Стритские
банки
Кровавые
деньги летят,
Но
помните,
помните,
янки:
Народы
войны не
хотят!
Я
показал моё
сочинение
родителям.
Папа попросил
красиво
переписать
его, я сделал
это, но мой
почерк был,
очевидно,
недостаточно
каллиграфическим.
Тогда
переписать
стихотворение
вызвалась мама.
Получилось и
в самом деле
очень впечатляюще.
Как ты
его назовёшь?
спросил
отец. Я
подумал и
сказал:
"Народы
войны не
хотят".
Неплохо,
одобрил отец.
Женя, допиши
сверху название.
Мама
выполнила
отцов приказ.
Внизу
напиши:
"Собственное
сочинение
ученика
школы номер
шесть Илюши
Войтовецкого".
Мама
дописала и
это.
Отец
взял из
маминых рук
стихи, надел
шапку и
вышел.
По
соседству с
нами жил Пётр
Васильевич
Погудин,
редактор
газеты "Копейский
рабочий". Вот
к нему-то и
отправился
мой отец.
Дальше
произошло
вот что.
Прочитав
мои стихи,
Пётр Васильевич
мимоходом
поблагодарил
отца и со всех
ног помчался
в редакцию,
благо, от
дома она
располагалась
в нескольких
минутах не
очень
быстрого
бега.
Очередной
номер был уже
закрыт и
отправлен в
типографию.
Остановить
тираж!
прокричал
редактор. Вызвать
ответственного
секретаря!
Из
свёрстанного,
подписанного
к печати и почти
полностью
набранного номера
городской
партийной
газеты был
изъят
какой-то не
самый важный
материал с
первой страницы!
и вместо
него
ввёрстано
моё
стихотворение.
Утром
шахтёрский город,
награждённый
в былые
времена
орденом
Боевого
Красного
Знамени за
борьбу с
контрреволюцией
в годы
Гражданской
войны, узнал
о рождении
нового
советского
поэта-земляка.
Мне
выписали
гонорар сто
рублей! Сумма
не ахти какая
большая,
сразу разбогатеть
от таких
денег я не
смог бы, но их
вполне хватило,
чтобы купить
в
промтоварном
магазине детекторный
приёмник
"Комсомолец",
он стоил
сорок рублей.
Чёрный
корпус
размером
чуть больше
коробки
из-под домино
с ручкой
настройки,
двумя дырочками
для
подключения
наушников,
двумя
дырочками
для вилочки с
кристаллом
детектора,
шестью
дырочками
для антенны
(в инструкции
указывались
длины радиоволн,
которым
соответствовали
дырочки) и местом
для
подключения
заземления.
Отец
придирчиво
осмотрел моё
приобретение.
Куда
подаётся
питание?
спросил
опытный
фронтовой
радист.
Тут
написано:
"Питание не
требуется",
ткнул я
пальцем в
инструкцию.
Отец
раскатисто
рассмеялся:
Это
тебé питание
не требуется.
Радиоаппаратура
без питания
не работает!
Ты
поступил
некрасиво, сказала
мама. Что
было бы, если
бы я на мою зарплату
покупала то,
что мне
захочется, а
папа на свою себе.
Ты получил гонорар,
это твоя
зарплата. Ты
должен был
принести
деньги в
семью. А ты их
просто
выбросил,
потому что
твой
дефекторный приёмник
никогда
работать не будет,
папа в этом
разбирается
лучше тебя.
Детекторный
Это
одно и то же.
Всё-таки
я выполнил
все
предписания
инструкции:
залез на
шиферную
крышу
двухэтажного
училища и
оттуда
протянул в
форточку нашей
комнаты
медную
проволоку,
прилагавшуюся
к комплекту,
прикрутил к
трубе
центрального
отопления
провод
заземления,
включил и
надел на
голову
наушники и
стал крутить
ручку
настройки. В
наушниках
слышны были
какие-то
шумы, но
никакие членораздельные
звуки или
голоса до
моего слуха
не долетали.
Совершенно
подавленный
и
раздавленный,
я бросил
наушники на
стол и сел
готовить
уроки. Отец
что-то
насмешливо
выговаривал,
подтрунивал,
напевал,
расхаживая
по квартире.
Мама
недовольно
молчала.
Так
продолжалось
несколько
часов.
Вдруг
мне
показалось,
что очень
громко!
зазвучала
вступительная
мелодия,
потом диктор
объявил:
Говорит
Челябинск.
Местное
время
шестнадцать
часов.
Передаём
областной
выпуск последних
известий.
Это
были самые
радостные
последние
известия
областного
радио, услышанные
мною в жизни.
Отец
отложил
газету,
встал,
подошёл к
приёмнику и
натянул на
голову наушники.
Он стоял и
слушал, на
его лице
застыло недоумение.
Странно,
сказал он
наконец. Тут
какой-то обман.
Аппаратура
без питания
работать не
может. Тебя
обманули,
назидательно
сказал он
мне. Это ещё выявится,
можешь не
сомневаться.
На, слушай! презрительно
ткнул он мне
в руки
наушники. Верь
всякой
ерунде!
Весь
вечер я
слушал
радиопередачи
областного
радио, потом
началась
ретрансляция
московской
программы
до глубокой
ночи.
Приёмник
работал без
питания!..
В
"Пионерской
правде"
временами
печатались
статьи для
юных
радиолюбителей:
"Как сделать
усилитель
высокой
частоты для
детекторного
приёмника",
"Как сделать
усилитель
низкой
частоты для
детекторного
приёмника",
"Как сделать
выпрямитель
для
батарейного
радиоприёмника".
Я стал
аккуратным
читателем
странички
"Для юных
техников", в
мечтах я
строил
усилители и
выпрямители,
но названные
в статьях
радиодетали
электронные
лампы,
панельки, лепестки,
конденсаторы,
сопротивления,
даже обычные
провода
оставались
предметами
недостижимых
грёз.
В
тресте
"Копейскуголь"
есть отдел
связи, сказал
отец. Женя,
узнай, кто
там начальник.
Мама
узнала и даже
договорилась
о встрече.
Дверь
открыл
большой
полный
флегматичный
мужчина. Он
заговорил с украинским
акцентом:
Та як
же, поможем
хлопчику,
нехай
занимается,
дило дуже
похвальное.
Нэси свои газэты,
побачим, чого
там
понапысано.
Александр
Михайлович
Потупейко
стал первым
моим
учителем
радиотехники.
Он доставал
для меня
детали,
объяснял, как
наматывать
катушки
резонансных
контуров,
научил
простым
расчётам. С
паяльником в
руке я
долгими
часами
просиживал
над моделями,
наматывал
лакированную
проволоку на
бумажные
гильзы для
охотничьих
патронов,
обмазывал их
вонючим
бакелитовым
лаком, сушил,
перепачкал
дома всю
мебель и
одежду, прожёг
расплавленным
оловом столы
и стулья, но в конце
концов мои
приёмники
работали,
что-то ловили
на длинных,
средних и
даже на коротких
волнах, я
стал сам
придумывать
и строить
эффективные
системы АРУ
(автоматической
регулировки
усиления), и
характерные
замирания на
коротких
волнах
сводились в
моих схемах к
минимуму.
Когда
я учился в
девятом
классе, отец
привёл
маленького,
метра в
полтора
ростом, мужичёшку.
Степанов,
председатель
ДОСААФа,
заплетающимся
языком отрекомендовался
мужичёшка и
сделал крен
на один борт.
Отец заботливо
поддержал
гостя. Если
тебе скажут, что
профсоюзы
школа
коммунизма,
не верь. Школа
коммунизма
ДОСААФ,
потому как
без армии,
авиации и
флота
никакого
коммунизма
не будет.
Кругом враги,
они сожрут
все
достижения
Октября и не
поморщатся! А
ДОСААФ
добровольное
общество содействия
армии,
авиации и флоту.
Я излагаю
доступно?
Молодёжь
меня понимает?
Молодёжь
его понимала.
Хочешь
строить
коммунизм?
без обиняков
спросил
Степанов.
Хочет,
хочет!
поспешил
заверить
гостя отец.
Мне
нужен
инструктор
по радиоделу.
На общественной
основе. Ну, не
без того, к
празднику
можно
десятку-другую
подбросить
в целях поощрения
и повышения
личной
заинтересованности,
оно никогда
никому не
вредило. Я про
тебя слышал.
Согласен строить
со мной
коммунизм?
Чтобы вместе
и навек!
Согласен,
согласен,
заверил отец.
Тут же
Степанов
выписал мне
форменное
"Удостоверение
инструктора
ДОСААФ", расписался
и
торжественно
вручил, пожав
и мне, и отцу
руку.
Я стал
вести кружки
радиолюбителей
в каких-то
шахтёрских и
заводских клубах.
Так
продолжалось
до самых
выпускных экзаменов.
Накануне
первомайских
и
октябрьских
праздников
Степанов
вызывал меня
к себе в городской
комитет
ДОСААФ,
приглашал в
кабинет и
вынимал из
ящика
ведомость:
Поздравляю с
праздником!
Распишись.
Я
расписывался
против суммы
в двадцать,
иногда в
сорок и
пятьдесят
рублей.
Степанов отсчитывал
мне половину.
Остальное
на борьбу за
мир во всём
мире. Не возражаешь?
Я,
конечно, не
возражал.
Борьба за мир
во всём мире
дело святое.
В 1954
году я
получил
аттестат
зрелости и
поехал в
Свердловск
поступать в
Уральский
политехнический
институт.
Почему
именно в
Свердловск?
причитала мама.
И в
Челябинске
есть политехнический,
прекрасный
институт, и
рядом с
домом. Тебе
что, плохо
жить рядом с
мамой и папой,
тебе
обязательно
хочется
валяться на общежитской
койке и
питаться в
студенческой
столовой? Представляю
себе, чем
кормят в
студенческой
столовой!
Мама,
радиофак
есть только в
УПИ. В
Челябинском
политехническом
радиофака
нет.
Мои
доводы
казались
маме
неубедительными.
Но ты,
конечно,
сделаешь
по-своему,
догадалась
мама.
Высокий
парень в
очках
просмотрел
мой аттестат,
хмыкнул.
Копейская
средняя
школа
Оценки
не блеск
Рабочий
стаж есть?
Рабочий стаж?
Какой
рабочий стаж?
Абитуриенты
с рабочим
стажем
принимаются
в первую
очередь. Ты
на производстве
работал?
На
производстве?
Нет
И тут
меня осенило.
Вернее,
работал,
конечно,
работал
Я
работал, я
преподавал
радиотехнику
в ДОСААФе. Я
был инструктором
ДОСААФа по
радиотехнике!
Вот моё Удостоверение!
Парень
повертел
подписанные
Степановым "корочки".
Это
фуфло, такое
хоть кто
может
достать. Вот
если бы
Трудовая
книжка
У
тебя есть
Трудовая
книжка?
Трудовая
книжка? Ах,
Трудовая
книжка! Ну, конечно,
есть! А как же,
конечно, ведь
я работал
инструктором
ДОСААФа, у нас
председатель
Степанов. Вы
не знаете?
Нет, не
знаю. Вот
тащи
Трудовую
книжку, тогда
тебе будет
зелёная
улица. Тут
хоть Копейск,
хоть не
Копейск, один
хер, примут,
только сдай
экзамены на
положительные
оценки. А без
Трудовой книжки
непролаз
На
радиофак
меньше тридцати
баллов никаких
шансов.
Тридцать
баллов по
шести
предметам
это все
пятёрки. Да-а
Папа,
кричу в
телефонную
тубку, папа,
те кто
поступает с
трудовым стажем,
проходят в
первую
очередь. Я
показал
Удостоверение,
что мне
выписал
Степанов, а
они говорят
нужна
Трудовая
книжка
Трудовая
книжка?
переспросил
отец.
Трудовая
книжка,
подтвердил я.
В
кабинке
центрального
переговорного
пункта душно.
Я вспотел.
Трудовые
книжки
бланки
строгой
отчётности,
сказал отец.
Их выдают
только отделы
кадров с
личной
подписью
руководителя
предприятия
или учреждения
Где ты остановился?
Нигде.
Я ещё не
подал
документы.
Переночую на
скамейке, а
там посмотрим.
Тем, у кого
принимают
документы,
дают место в
общежитии.
Приходи
утром к
поезду
Ночь
была ясная,
тёплая,
звёздная,
лунная ночь
для
влюблённых и
поэтов. На
площади перед
институтом
благоухал
цветущий
шиповник. К
полуночи
главный
учебный
корпус погрузился
во тьму. Я
кружил по
дорожкам,
пытаясь
найти место на
скамейке, но
таких, как я,
около
института
ошивалось
много. Тем не
менее место я
нашёл. Сел,
огляделся,
одёрнул
пиджак,
подтянул на
коленях
штанины,
положил на
край
скамейки
чемодан
вместо подушки
и лёг. Хорошо!
Кричала
ночная птица.
Из открытого
окна далёкого
общежития
радиофака
доносилась музыка.
Перемигивались
звёзды.
Небосвод медленно
кружился
надо мной,
кренился
набок, уплывал
в сторону и
возвращался.
Наконец, он
уплыл совсем.
Это
что такое!
вывел меня из
забытья
окрик.
Бездомный? У
нас в стране
бездомных
нет!
Я вам
мешаю?
спросил я
парнишку,
моего сверстника,
ну, может, на
год-два постарше.
Ты мне
не выкай!
закричал он и
свистнул в милицейский
свисток.
Развелись
тут,
пережитки
капитализма!
А ну,
убирайся,
пока милиция
не пришла.
Зачем
милиция?
удивился я. А
посидеть
можно?
Посидеть? Он
задумался. У
тебя десятка
найдётся?
Десятка? Нет,
десятки нет.
У меня только
полсотня.
Сойдёт, давай
полсотню,
протянул он
руку.
Я
поразмышлял
и решил, что
за полсотню
могу побродить
по городу,
полсотня за
сидение на
скамейке
пожалуй,
многовато.
Тогда
вали отсюда,
сказал
парень. Не
вздумай
пересесть на
другую скамейку,
мы тут
патрулируем,
чтобы такие
фраеры, как
ты, ландшафт
не портили.
Комсомольский
патруль.
Понял?
Понял
Ночь
была
по-прежнему
ясная,
тёплая,
звёздная,
лунная,
благоухал
шиповник, но
влюблённые и
поэты рядом с
комсомольским
патрулём
почувствовали
бы себя,
пожалуй, одинокими
и
обездоленными.
Я
кружил по
спящему городу,
кое-где в
окнах горели
огни, иногда,
громыхая,
проходил не
совсем
пассажирский
трамвай без
стен, без
окон и
дверей,
большие грузовики
везли под
брезентом
какие-то поклажи,
шарили
фарами по
асфальту,
визжали тормозами
редкие автомашины.
Начало
светать. Я
взглянул на
часы. Надо
пробираться
поближе к
вокзалу, часа
через
полтора
придёт
челябинский
поезд.
По
противоположной
стороне
улицы шли двое,
парень и
девушка.
Скажите,
пожалуйста,
крикнул я. Вы
не подскажете,
как
добраться до
вокзала?
Дуй по
путям,
парень снял
руку с плеча
спутницы и
указал
направление.
Потом один
путь поведёт
прямо, другой
направо, так
ты прямо не
дуй, ты дуй
направо.
Понял? Дуй,
дуй, пока
слева не увидишь
вокзал.
Понял? Минут
за сорок
доберёшься.
Спасибо.
У тебя
закурить не
найдётся?
Нет, я
не курю
Мама
не разрешает?
Ага.
Молодец,
послушный
мальчик.
Курить, сука,
хочется
Поезд
пришёл точно
по
расписанию. Я
ходил, ходил
вдоль
перрона, но
отца не было.
"Наверно, не
приехал,
решил я.
Конечно, не
приехал. Не
достал
Трудовую
книжку, где
он её
достанет бланк
строгой
отчётности! А
без Трудовой
книжки чего
ехать? Нечего
"
Илюша!
услышал я
отцовский
голос и
оглянулся.
Нет,
это был не
отец, это был
его негатив.
Я много
занимался
фотографией,
проявлял при
красном
фонаре
плёнки,
увеличивал и
печатал снимки,
я хорошо
знал, как
выглядят
папины и мамины
негативы.
Передо мной
стоял
совершенно
чёрный
человек
лицо, шея,
руки, пиджак,
рубашка,
брюки, туфли
Только белки
глаз и зубы
высвечивались
белым на
иссиня
чёрном фоне.
Папа?..
Не
было ни
одного
билета, ни
одного места.
Я пробовал
договориться
с проводницей
бесполезно.
Пришлось
ехать на
буфере
Всю
ночь?
Всю
ночь. Из
трубы дым с
углём, и, как
назло, ветер
всё время в
мою сторону.
Вот, развёл
он чёрные руки.
Папа!
Вот
тут, во
внутреннем
кармане,
кивнул отец.
Трудовая
книжка,
возьми её.
Я
расстегнул
отцовский
чёрный
пиджак, расстегнул
чёрную
пуговицу
чёрного
кармана, нащупал
конверт и
извлёк его
наружу.
Осторожно, не
испачкай.
В
конверте
лежала настоящая
Трудовая
книжка, в ней
значилось,
что в течение
трёх с
половиной
лет её
владелец
состоял в
штате
Добровольного
Общества
Содействия
Армии,
Авиации и
Флоту,
занимал
должность
инструктора
и преподавал
основы
радиотехники.
Круглая
печать и
подпись Председателя
Степанова
были на
месте.
Летом
58-го где
только мы с
мамой не
искали отца!
Выехал
человек из Магнитогорска
и как в воду
канул.
Приёмные покои
больниц,
милиция,
уголовный
розыск, морги
нет, нигде
никаких
следов.
Лишь
через две
недели
безрезультатных
поисков нам
кто-то
подсказал:
Свяжитесь с
железнодорожной
больницей. Там
лежит
неопознанный
парализованный
старик с
двусторонним
воспалением
лёгких. А
вдруг
Это
был отец
исхудавший
до состояния
мощей, на
голове серые
патлы, вместо
лица комок
седой шерсти.
О том,
что с ним
произошло, мы
узнали по
прошествии
долгого
времени.
А
случился
обычный
российский
сюжет для небольшого
рассказа.
Стоял
знойный июнь
(или июль). В
переполненном
неплацкартном
вагоне было
душно и накурено.
Отец плохо
себя почувствовал,
вышел в
тамбур, там
его стошнило,
и он потерял
сознание.
Поезд
прибыл на
станцию,
пассажиры,
переступая
через
лежавшего
поперёк
тамбура мужчину,
стали
выходить из
вагона.
Когда
состав
опустел,
алкаша (так,
вполне естественно,
решила
проводница) выкинули
на перрон.
Был полдень,
от свирепого
южно-уральского
солнца плавился
асфальт.
Отец
пролежал под
открытым
небом до
вечера. Когда
стало
смеркаться, сотрудники
железнодорожной
милиции
собрали
пьяных по лавкам,
углам и сортирам
и, покидав их
в кузов
грузовика,
отправили в
вытрезвитель.
Там клиентов
разбросали
по
металлическим
койкам и из
шланга
обдали
каждого
струёй
холодной воды.
Утром
продравшие
зенки
пролетарии,
страдая от
вчерашнего
недоперепоя
и от неудовлетворённой
потребности
опохмелиться,
мокрые и
продрогшие,
предстали
пред
стражами
порядка.
Производились
дознания,
составлялись
протоколы.
Лишь
один мужчина,
посиневший и
почти бездыханный,
как его ни
трясли,
подняться с
койки не
смог. Это был
отец.
Бумажника с
документами
и деньгами
при нём не
обнаружили,
его карманы
уже были
основательно
вычищены и очищены,
поэтому
установить
личность
найдёныша не
смогли.
В
железнодорожную
больницу
поступил неопознанный
пациент с
кровоизлиянием
в мозг,
двусторонним
воспалением лёгких
и полным
параличом.
Когда мы
забирали
отца домой,
лечащий врач,
крохотный
лысый еврей в
белом незастёгнутом
халате, со
сползавшими
с бёдер штанами
и с
переносицы очками
лучшей натуры
для
списывания
облика
"убийцы в
белом халате"
образца 1953
года не
отыскать грустно
сказал:
Выживет?..
Какая-то
надежда,
самая
минимальная,
может быть и
есть. Но
подняться с
койки? Нет, с
койки он уже
никогда не
поднимется, я
в чудеса не верю
Речь? Вы
имеете в виду
разговаривать?
Нет, что вы! Я
не думаю. Слишком
обширное и
глубокое
поражение всех
двигательных
центров.
Чудес
он
пожал плечами,
чудес в наше
время не бывает.
К сожалению
За
полгода до
этого, 17
января, отцу
исполнилось
пятьдесят
лет.
1959-ый
год
начинался с
правой ноги.
Вопреки медицинским
прогнозам отец пошёл.
Конечно, он
не побежал,
не запрыгал,
но те
движения, которые
отец начал
производить,
вполне можно
было
определить
как первые
шаги.
Отец
отказывался
от помощи,
сам садился
на край
кровати,
опускал
тощие ноги,
упирался
руками в
массивную
металлическую
раму пружинной
сетки, напрягался,
осторожно
приподымал
своё костлявое
тело, колени
его ходили
ходуном из
стороны в
сторону, он отталкивался,
раскидывал
трясущиеся
руки, покачивался
на месте и
неуверенно
переставлял
дрожащую
ногу. Уходило
немало времени
на то, чтобы
утвердиться
в таком
положении.
Удостоверившись,
что опыт
удался, отец
робко
переносил
тяжесть (скорее
лёгкость,
почти
невесомость)
своего тела
вперёд и
подтягивал
вторую ногу.
В его глубоко
запавших
глазах на миг
вспыхивал огонёк
радости, а
перекошенный
параличом рот
передёргивался
подобием
улыбки.
Папа,
хочешь
посидеть,
отдохнуть?
Отец
замычал и
отрицательно
замотал головой.
Однако, после
трёх-четырёх
шагов он устало
опустил веки,
на его впалых
висках выступили
капельки
пота, и я
подставил
стул и усадил
на него то,
что осталось
от былого
мускулистого
здоровяка,
каким я
всегда знал
отца.
Прошлым
летом он
уехал в
командировку
в Магнитогорск,
закончил там
ревизию и выехал
в обратный
путь. До дома
он не доехал.
Папа,
помочь тебе
встать?
Отец
замычал и
замотал
головой.
А
однажды
(настал такой
день!) он
разлепил спекшийся
рот и,
прорываясь
сквозь
долгое молчание,
выдавил из
себя
одно-единственное
слово:
Алэйн
*
* алэйн (идиш)
сам.
Вылепил
это "алэйн"
чужими
губами и
засмеялся и
заплакал
одновременно.
Помнишь
мама? Я
возвращался
из
командировки,
из Рудного.
Решил: на
этот раз не
полечу
самолётом,
поеду
поездом.
Доеду от
Кустаная до
Челябинска,
там
пересадка на
Свердловск, и
я смогу
задержаться
на сутки,
заскочить к
вам в Копейск.
Тем более что
трёхлетний Санька
гостил тогда
у вас, я не
видел сына целый
месяц и
соскучился.
Поезд
пришёл
глубокой
ночью.
Вьюжило. Автобусы
уже не
ходили.
Таксист
поторговался,
выторговал у
меня целое
состояние, всю
дорогу мы
проговорили
и выяснили,
что были
вместе в
пионерском
лагере.
Вовку
Голикова
помнишь?
спросил
таксист. Вовку
Голикова я
помнил.
Он
тебе всё
кричал
"жидёнок!
жидёнок!"
Помнишь?
Конечно,
помню.
Вовка
был старше
меня, выше и
здоровее. Он
кричал,
кричал, а
потом мне надоело,
и я от
отчаяния
перехватил
его руками за
поясницу,
перевернул в
воздухе и
стал
задницей
бить о ствол
сосны. Вовка
не
оборонялся,
только орал:
"Отпусти, сука,
попишу!" "Попишу"
означало:
полосну
бритвой по
глазам. Такое
у нас бывало.
Он орал, а я
бил его задницей
о ствол.
Я бил
его, а ребята
стояли
вокруг и
смотрели. И
никто даже
слова не
сказал ни за
него, ни за
меня. Потом,
когда я
бросил Вовку
на землю, все
стали хлопать
меня по
плечу, а
Вовка
поднялся и сказал:
Здóрово это
ты! Держи
пять! и
протянул мне
руку. Теперь
мы друзья.
Друзьями
мы не стали,
но больше он
меня не дразнил.
Помнишь, да?
спросил
таксист.
Ну да,
помню,
ответил я.
Не
узнал, что ли?
оборотил он
ко мне
радостный
оскал.
Вовка!
Ага!
подтвердил
счастливый
Вовка. Я тебя
сперва не
узнал, а когда
отъехали,
гляжу ты! Ну,
дела!
За
дорогу мы
вдоволь
наговорились,
а когда подъехали
к дому, он
наотрез отказался
взять деньги.
Я ведь
всё равно
домой должен
был ехать. Брось
ты
Тут можно
сказать
друга детства
встретил, а
ты деньги
суёшь. Держи
пять! и он
протянул мне
руку. Может,
ещё свидимся
Мама
была дома
одна.
Папа в
больнице.
Я это
знал, он уже
дней десять
лежал в больнице
после
очередного
сердечного
приступа.
 А
Санька? Где
Санька? Мама,
где Санька?!
А
Санька? Где
Санька? Мама,
где Санька?!
Санька тоже в
больнице
Перелом.
Перелом руки.
Как раз в
локте. Очень
больно.
Она
стояла около
меня, совсем
седая, маленькая,
в ночной сорочке,
стояла и
плакала.
Он
играл с
мальчиками
во дворе, там
стол, ну, летом
старики
"забивают
козла"
Он
играл с
детьми, один мальчик,
большой мальчик,
старше Саши,
говорит: "А с
этого стола спрыгнешь?"
Саша залез и
спрыгнул.
"Давай ещё
раз. Кто
дальше". Саша
опять залез
на стол, а тот
мальчик
крикнул: "Бей
жидов, спасай
Россию!",
подставил
ножку и
толкнул Сашу
в грудь. Саша
упал и сломал
руку. В локтевом
суставе.
Мама
всхлипнула.
Я пошла в
школу.
Мальчик
большой,
учится в четвёртом
классе. Я
говорю ему:
"Ты ведь вон какой,
а Саше только
три года.
Зачем же ты
его толкнул?"
Знаешь, что
он ответил?
"Он жид. Папа
сказал, что
жидов надо убивать".
Это при
директоре
школы и при
классной
руководительнице.
Кто
сейчас
директор
школы?
Кто-кто,
Роман
Израилевич
Роман
Израилевич
был в моё
время
завучем младших
классов. В
старших
классах завучем
был Николай
Васильевич
Сольский,
директором
школы был
Фёдор Иванович
Шашурин, оба
уже на
пенсии, а
Роман
Израилевич стал
директором.
Ну, и
что Роман
Израилевич?
Что-что! "Лозт
им уп,
говорит,
зайн футер из
дер
секретарь
горкома партии.
Лозт им уп
"*
Сказал тихо,
чтобы никто
не слышал. А
классная
руководительница
услышала и
тоже сказала
"Лозт им уп."**
Поняла
Вот и
всё.
* Лозт им
уп, говорит,
зайн футер из
дер секретарь
горкома
партии. Лозт
им уп
(полуидиш-полурусский)
Оставьте
его, говорит,
его отец
секретарь горкома
партии.
Оставьте его
** Лозт им
уп (идиш)
Оставьте его.
Шёл
предутренний
четвёртый
час, ночь
была на
исходе. До
больницы
километров
пять. Всю
дорогу я
бежал.
Кружила метель,
но мне было
жарко. Я распахнул
пальто, стянул
с головы
намокшую
шапку.
В
больницу
меня не
хотели пускать,
потом кто-то
узнал:
"впустите, я
его знаю".
Показали
палату.
Санька, мой
маленький Санька
лежал на
большой кровати,
его грудная
клетка была
обхвачена двумя
обручами, из
них торчала
металлическая
шина. На шине,
загипсованная
и забинтованная,
белела Санькина
сломанная
рука. Санька
стонал.
Утром
приехала
мама.
Так мы
и провели
весь день до
вечера в
больнице,
курсировали
между палатами:
от Саньки к
отцу, от отца
к Саньке. Сын
не жаловался
на боль,
только временами
постанывал.
Он был совсем
маленький,
ему только-только
исполнилось
три годика. А
отец
неподвижно
лежал на
койке под
белой простынёй
и неотрывно
смотрел в
потолок.
Сколько
я ни тянул
время, ни
оттягивал
отъезд, ехать
было
необходимо, утром
я должен был
выйти на
работу. Мне
предстояла
дорога от
Копейска до Челябинска
двадцать с
чем-то
километров
автобусом,
потом в
Челябинске
из центра до
вокзала,
зимой по
вечерам
транспорт
работал плохо,
автобусы и
трамваи
ходили
переполненные,
мне
следовало торопиться.
Я поцеловал
сына, обнял и
поцеловал маму,
"звони, пиши",
попросила
она.
Зашёл
в палату к
отцу. Он
по-прежнему
лежал на
спине, глаза
его были открыты.
По ним я не
сумел понять,
видит ли он меня,
узнаёт ли. Я
сказал ему
что-то,
спросил: "Папа,
ты меня
слышишь? Если
слышишь,
моргни три
раза". Он смотрел,
не моргая. Я
помахал ему
рукой, сказал
"ну, пока,
будь здоров"
и ушёл. А отец
остался
лежать в
палате и
неморгающими
глазами
глядеть в
белый больничный
потолок.
Из-за
ночного
снегопада и
заносов в
Свердловск
поезд прибыл
после
полудня. Небо
очистилось,
солнце ярко
светило;
снег, не
успевший вобрать
в себя дым и
гарь всех городских
котельных,
кочегарок,
сталеплавильных
и
мартеновских
печей, был
бел.
Я
позвонил с
вокзального
автомата на
работу,
доложил, что
прибыл,
пересёк
площадь и втиснулся
в подошедший
трамвай. Снег
с тротуаров и
с проезжей части
улиц был уже
убран.
Жену я
застал дома.
Игорь лежал
на диване. Я удивился,
увидев
гостью: Циля
Захаровна, учительница
сына, сидела
рядом с ним
на краешке
дивана. У
Веры были
заплаканные
глаза.
Что-нибудь случилось?
У
ребёнка
сотрясение
мозга,
ответила жена.
Была рвота,
теперь
получше.
Почему вы не
в больнице?
Что
случилось? Он
упал? Его
тоже кто-то
толкнул?
Когда это
произошло?
Почему вы не
вызвали
врача?
Игорёша, что
с тобой?
Беда
никогда не
приходит
одна: вчера
Санька, а вот
теперь
Жена и
учительница
стали
наперебой
пересказывать
мне суть
происшедшего.
Игорь,
первоклашка,
вышел после
окончания уроков
из школы.
Мальчишки из
третьего класса
играли в
снежки,
бросали друг
в друга, в прохожих,
в школьные
окна и двери.
Завидев
Игоря, стали
закидывать и
его. Игорь
пригнулся,
втянул
голову в плечи
и попытался
пройти
сквозь толпу
учеников.
Кто-то крикнул:
Глядите: жид
по верёвочке
бежит!
Началась
"куча-мала":
сына сбили с
ног и стали
топтать.
Проходившая
мимо
беременная
женщина
попыталась
остановить
разбушевавшихся
малолеток, в
азарте
потасовки
они и её
опрокинули в
снег и тоже
стали пинать
и топтать.
Выбежали
учителя,
вызвали
"Скорую",
пострадавших
увезли в
больницу: Игоря
с ушибами и
сотрясением
мозга, истоптанную,
истерзанную
женщину с
сильным
кровотечением.
Позднее мы
узнали, что у
неё случился
выкидиш.
С
Цилей
Захаровной
Езерской мы
подружились,
она доучила
Игоря до
самого
нашего отъезда.
Утром 10
марта 1971 года я
пожаловал в
Свердловский
ОВИР, чтобы
подать
документы
для выезда
"на ПМЖ в Израиль"
(правда,
аббревиатура
ПМЖ появилась
позже, в то
время не было
представления
о постоянном
или
временном
месте проживания
за пределами
лагеря мира и
социализма
если уезжали,
то раз и навсегда).
Конечно, у
меня
потребовали
представить
письменное
согласие родителей,
и мне
пришлось
позвонить в
Копейск. Отец
лежал в
больнице, мне
ответила
мама. Да если
бы даже отец
и был дома, поднять
трубку он бы
не смог:
после
недолгого
улучшения
вновь
прогрессировал
паралич.
Мама,
возьми
бумагу и
карандаш,
сказал я, и записывай.
Взяла? Пиши:
"Я, Войтовецкая
Евгения
Ильинична, не
возражаю против
переезда
моего сына
такого-то в
Государство
Израиль на
постоянное
жительство".
Подпись.
Ни-ког-да!
закричала
мама в трубку.
Ты слышишь?
НИ-КОГ-ДА! Ой!
Послышался
жёсткий удар
(трубка
выпала из маминых
рук), мягкий
удар (мама
рухнула со
стула на пол)
и тишина.
Мама!
Мама! Ма-ма!
Тишина.
Маа-маа! Ма-а-а!
Ма-а-а-а-а!
Полная
тишина.
МААААМАААА!
Мёртвая,
гробовая
тишина.
Я
опустил
трубку,
поднял, ещё
раз набрал
номер.
"Пи-пи-пи-пи-пи
"
короткие
гудки.
Итак,
парализованный
отец в
больнице,
мама одна в
запертой
изнутри
квартире на
полу без
сознания, и
больше
никого.
Я стал
звонить в
Копейскую
городскую
больницу. Там
и родителей,
и меня многие
знали: мы
долгие годы
прожили в
этом городе,
в нём я
закончил
школу,
работал на
местном радио,
печатался в
газете,
некоторые
медсёстры и
врачи были
моими
школьными
соучениками.
Я дозвонился,
назвал моё
имя.
Да-да, я
вас слушаю.
Я
описал
ситуацию.
Чем же
мы можем вам
помочь? Чем я
могу вам помочь?
В
голосе
озабоченность
и участие,
это слышно
сразу,
ошибиться
невозможно.
Поезжайте по
такому-то
адресу, прошу
я, постучите,
позвоните,
покричите,
если вам не
ответят,
взламывайте
дверь. Очень
вас прошу.
Извините.
Спасибо. Ради
Бога!
Они
поехали.
Звонили,
стучали,
кричали, ещё звонили
и стучали и
кричали, и
ещё, и ещё. Потом
взломали
дверь. Мама
так и лежала
без сознания
ничком на
полу.
Маму
увезли в
больницу.
Первые
её слова,
когда она
очнулась,
были
"никогда, ты
слышишь? никогда!"
Евгения
Ильинична,
что никогда?
спросила маму
знакомая
медсестра.
Передайте
ему: ни за что!
Мне
так и
передали:
никогда и ни
за что.
А в
ОВИРе
требовали
согласия
родителей
Не
стоит травмировать
ребёнка,
сказала Циля
Захаровна. Ученики
узнают от родителей,
от товарищей,
что Игорёк
уезжает в капиталистическое
государство,
его затравят.
Пусть, пока
вы ждёте разрешения,
посидит дома.
Мы
решили
отправить
Игоря в
Копейск.
Мама
обрадовалась,
что внук
какое-то
время
пробудет у
них, она
почему-то
считала, что
наш первенец
похож на
деда, и души в
нём не чаяла.
В
середине
ноября, когда
мы из ОВИРа
получили
официальное
приглашение,
Вера съездила
к моим
родителям,
попрощалась
с ними и привезла
Игоря в
Свердловск. В
ОВИР, на
приём к
девице Жуковой
и девице
Чирковой, я
отправился с
обоими
сыновьями.
Затем,
с визами в
кармане, я с
маленьким
Санькой
авиарейсом,
который занимал
около
получаса,
отправился к
родителям
до
Челябинска, а
оттуда автобусом
в Копейск.
Трудный
это был
визит. Мама
прижимала к
себе Саньку,
плакала,
наказывала
внуку помнить
деда с
бабкой,
которых он
никогда больше
не увидит,
кормила его
всякими
лакомствами,
готовить
которые она
была великой
мастерицей,
подводила
его к деду и
приговаривала:
Ты
меня слышишь,
Ной? Твой
внук уезжает
в Эрц-Исрóэл*!
Ты меня слышишь?
Твои внуки
будут
говорить на
лушн-кóйдэш**!
Ты меня
слышишь, Ной?
Твои внуки и
их дети и
внуки, и дети
и внуки твоих
детей и внуков
будут теперь
жить в
Эрц-Исрóэл.
Ты думал когда-нибудь,
что род
Войтовецких
будет продолжаться
на Святой
Земле, что
твои потомки
будут
разговаривать
на
лушн-койдэш,
а? Ты слышишь
меня, Ной?
*
Эрц-Исрóэл (идиш)
Земля
Израиля.
**
лушн-койдэш (идиш)
буквально
святой язык,
так евреи
галута называли
древне-еврейский
язык, иврит,
на котором
они молились.
Отец
лежал на
спине и
смотрел в
потолок. Временами
из уголка его
глаза сочилась
струйка, и
мама платком
вытирала её. Санька
не знал, как
себя вести,
иногда он затихал
у постели
деда, иногда
убегал и
прятался за
шкафом, и
мама
уговаривала
его:
Сашенька,
подойди,
поговори с
дедушкой, он хочет
тебя
послушать.
Стояла
суровая зима,
за окном
вьюжило. Я
укутал
Саньку и
пошёл с ним
по городу моего
детства: вот
в этой школе
я учился в шестом
и седьмом классах,
вот Дворец
пионеров и музыкальная
школа, тут я
учился
музыке и занимался
в драмкружке
у Тамары Павловны
Градской. "Ты
ещё
маленький, не
понимаешь, но
ты смотри и
слушай,
слушай и
смотри, вот
эту школу я
заканчивал,
девятый и
десятый
классы. В январе
пятьдесят
третьего, во
время "дела
врачей", меня
не впустили в
школу, все
мои соученики
вышли во двор
и стали
кидать в меня
снежки и
камни: "предатель!",
"шпион!",
"агент
Джойнта!" В
школу я вернулся
после пятого
апреля
В
подъезде
того дома, в
глубине
двора, я
целовался с
Милкой, она
теперь
важная дама,
её мужем стал
Владька
Каминский,
смурной-смурной
парень, он
учился в
шестой школе
на класс
младше меня и
бегал в милицию
бригадмилить,
а теперь стал
начальником
горотдела,
Милка могла
быть твоей
мамой, а
стала главной
милиционершей
города
"
Не
Саньке я это
рассказывал
себе, конечно
же, себе,
напоминал
прошедшую на
этих улицах
юность,
неповторимую
дурную и
прекрасную
юность мою.
Пролетели
отведённые
для побывки
дни, и настало
прощанье,
настоящее
прощанье, навсегда,
НАВСЕГДА с
матерью и
отцом, с
мамой и папой
НАВСЕГДА
Нужно было
суметь,
набраться
мужества и
сил, оторвать
лицо от неподвижного
влажного
отцовского
лица, потом
прижаться к
маме,
маленькой,
беспомощной,
седой, к моей
маме,
хлебнувшей
со мной
столько горя,
я был плохим
сыном, неласковым,
невнимательным,
доставлял
одни неприятности
прижаться,
целовать,
плакать и целовать
её щёки, губы,
лоб,
подбородок,
волосы, всё
лицо, залитое
солёными-солёными,
как вся её
жизнь,
слезами
а
потом отодвинуться
от неё, от
мамы, сказать
какие-то
слова, отворить
дверь, а она
а она
прижала к
себе Саньку и
закричала в голос:
Не
отпущу!
Изверг, не
отпущу! Не
имеешь права!
Мой внук, мой!..
Ты слышишь
меня?
Испуганный
Санька
попросил:
Папа,
давай
останемся, а,
папа
Давай
не поедем, а
Эта
тихая
просьба
привела мать
в чувство, она
очнулась,
расцеловала
Саньку.
Поезжай
Поезжай,
Сашуля
Поезжайте
И
разверзлась
земля. И
пролегла
пропасть.
Утром
мама вышла во
двор, вынесла
мусор. Под
окном
родительской
квартиры
стояли двое.
Какое-то
десятое или
двадцать
пятое
чувство,
развитое
только у
советских
людей,
подсказало
маме: первое
незнакомцы
пришли по её
душу; второе
оба из "органов"
Вы к
кому?
спросила
мама.
Если
вы
Войтовецкая,
то к вам.
Я
Войтовецкая,
сразу
созналась
мама.
Как по
команде,
визитёры
запустили
руки за борта
пиджаков,
извлекли и показали
служебные
удостоверения,
так у НИХ
было заведено.
Войдя
в дом,
"сотрудники
органов" они
сами отрекомендовали
себя таким
образом (на
самом деле
это были
начальник
Копейского
городского
управления
КГБ и его
заместитель),
сразу
направились
к "Спидоле",
наклонились,
сделали вид,
что изучают
шкалу. По ней,
конечно,
ничего
определить
они не смогли
бы, потому
что я
перемотал в
родительском
приёмнике
диапазоны
на волны "Голоса
Израиля" (33
метра) и
других
"вражеских голосов"
(13, 16 и 19 метров). Но
ничего
определять чекисты
и не
собирались,
по долгу
службы они и
так "знали
всё".
Слушаете
"Голос
Израиля"?
спросил
начальник.
Слушаем,
созналась
мама.
Садитесь.
Они
сели.
Огляделись.
Мама
тоже села.
Отец лежал на
боку, мама
временами
переворачивала
его со спины
то на один
бок, то на
другой, чтобы
не было
пролежней.
Отец мельком
взглянул на
вошедших
мужчин и
отвёл глаза,
он сразу
понял суть
происходящего,
и, конечно,
приход
непрошенных
гостей
вызвал у него
нерадостные
воспоминания
В
письмах я
рассказывал
родителям о
наших первых
шагах в
Израиле: у
меня уже есть
работа
нам
дали
четырёхкомнатную
квартиру, дети
учатся, свободно
владеют
ивритом,
вокруг всё
цветёт, мы
едим много
фруктов,
овощей. Письма
как письма.
К моим
родителям
захаживали
их друзья и
знакомые, их
бывшие
сотрудники, а
тут стали посещать
их и мои
школьные
товарищи, все
в городе
знали о моём
отъезде, люди
интересовались
"что слышно?",
"как он там?",
и мама читала
гостям мои
письма. По
городу поползли
слухи
И был
ВИЗИТ
Товарищи
визитёры
предъявили
свои служебные
удостоверения
(так положено!),
сели,
одновременно
взглянули на
шкалу
"Спидолы",
"Слушаете?"
"Слушаем
"
"М-да!.."
У нас к
вам просьба,
Евгения
Ильинична. Мы
знаем, что вы
переписываетесь
с сыном, это
же так
естественно,
так понятно,
вы родители,
он ваш сын,
притом, единственный,
это так
понятно, так
естественно,
мы ведь тоже
люди, мы
понимаем и
сочувствуем
так сказать,
отцы и дети
Переписка
дело личное,
даже
интимное, а
посторонние
люди не всегда
правильно
понимают, не
всегда
адекватно
реагируют. Не
думайте, что
все, кто к вам
приходит, это
ваши друзья и
друзья
вашего сына.
Есть и
завистники, и
злопыхатели.
Не стоит вам
до такой уж
степени
раскрывать
душу,
делиться со
всеми.
Постарайтесь,
пожалуйста,
никому
письма
вашего сына
не читать,
это вам же на
пользу.
Подумайте
сами,
обратилась
мама к чекистскому
благоразумию.
Как я могу не
показывать
письма?
Приходят наши
друзья,
приходят его
школьные товарищи,
интересуются,
спрашивают.
Не могу же я
сказать им,
что органы
запретили
мне
Что вы,
что вы, вы нас
не так
поняли. Мы
ничего вам не
запрещаем, мы
только
советуем
ради вашей же
пользы. А
запрещать!
что вы, что вы,
как же можно
запрещать, мы
только из ваших
же интересов,
никому,
пожалуйста,
не вздумайте
говорить, что
мы запрещаем,
и вообще о
наших
встречах
лучше ни с кем
не делиться,
мало ли что
могут люди о
вас же
подумать! Вот
только
письма, лучше
всё-таки их
не
показывать,
не давать
никому
читать, нехорошо
это давать
читать
личные
письма,
неэтично
как-то
Это вы
не мне, это вы
ИМ скажите,
чтобы не приходили
и не
интересовались.
А я что, меня
спрашивают, я
отвечаю, меня
просят, я
читаю. Разве
не так?
Так-то
оно так, но
всё-таки
И был,
был ещё
ВИЗИТ
Нехорошо
как-то
получается,
уважаемая
Евгения
Ильинична. Вы
сына растили-растили,
воспитывали-воспитывали,
а он
здрасьте-пожалте,
поднялся,
сделал папе с
мамой ручкой
и отчалил к
дальним
берегам, за лучшей
жизнью
поехал, к
тюльпанчикам-апельсинчикам,
за
четырёхкомнатной
квартирой, к
завтраку ему
свежий
творожок
подайте, к
обеду курочку,
на ужин
горяченькие
оладушки с
вареньем и со
сметанкой, а
о старых больных
родителях
пусть заботится
государство,
которое он же
и охаивает на
каждом углу.
О вас-то он
подумал? Вы
ему жизнь
отдали, а он
оттуда над
вами
изгаляется,
достатком своим
кичится.
Почему же!
возразила
мама. Мы с
мужем пенсию
нашу
собственным
трудом заработали.
А сын ради
своих детей
уехал, мы уж
тут
как-нибудь
сколько нам
осталось
Вот
именно,
"как-нибудь"!
Даже
проститься с папой-мамой
по-людски не
мог, поднялся
и будьте мне
здоровы!
Неправда!
возмутилась
мама. Он
приехал, побыл
у нас,
поплакали вместе
А как же
иначе!
Мы
посоветовались
с товарищами,
обсудили:
надо бы вам
жить с вашим
сыном вместе,
с внуками
вашими рядом.
Нехорошо
вдали-то. Мы
решили, что
вы должны
уехать к
вашему сыну в
Государство
Израиль на
постоянное
место
жительства.
Мама
на миг
лишилась
дара речи. А
из-за
занавески, за
которой
лежал отец,
впервые за
многие
месяцы
раздалось
прерывистое,
но вполне
различимое
мычание:
отец,
неподвижно
лежавший и не
реагировавший
на внешние
раздражители,
вдруг как мог
выразил
своё
отношение к
идее непрошенных
гостей.
Как же
так
Мама не
знала, как
отнестись ко
всему
услышанному.
Мой муж тяжело
болен,
парализован,
мы оба старые
беспомощные
люди, нам это
не осилить.
Да у нас и вызова
из Израиля
нет
Вызов
из Израиля
нам с вами не
нужен, ответил
начальник
чека, и вы
знаете, и мы
знаем, что
ваш сын
проживает в
Израиле. А с
отъездом мы
вам поможем,
не
беспокойтесь.
За вами
придёт карета
"скорой
помощи",
санитары на
носилках погрузят
вашего мужа и
доставят в
аэропорт к
трапу
самолёта. Вас
это устроит?
Как же,
как же!.. Мы тут
прожили
столько лет,
у нас
кое-какая мебель,
одежда, вещи
Не бросать же
это просто
так
Мы обо
всём
позаботимся,
заверил
маму чекист.
Грузовая
машина, бригада
грузчиков
прямо в
аэропорт, к
багажному
отделению.
Мама
была
обескуражена
и растеряна,
папа мычал
из-за
занавески, а
когда гости
ушли, он
вполне
членораздельно
позвал:
Женя!
Мама
откинула
занавеску и
склонилась к
отцу. Он
плакал.
Встречай,
сказала
телефонная
трубка маминым
голосом.
Что?
не понял я.
Кого?
Нас. Мы
едем к вам.
Кто
мы?
Папа и
я.
Тогда,
в начале
пятьдесят
девятого,
вдруг появилась
надежда,
вернее,
первые
искорки надежды
После
долгого
молчания
отец вдруг проговорил
"алэйн" и
пошёл. Пошёл
не сразу, понадобилось
время зима,
весна и лето,
но шаг за
шагом, слово
за словом, сначала
только
по-еврейски,
русский язык
совсем выпал
из отцовской
памяти, но
потом вернулся
и русский;
отец стал
ходить по
комнате,
разговаривать
односложными
фразами, надолго
задумываясь,
заикаясь,
иногда руками
помогая непослушным
губам, потом
стал
выходить из
дома, ему
выносили
стул, он
сидел
несколько
минут под
окном,
смотрел вокруг
большими
ввалившимися
глазами и радовался,
судорожно
смеялся и
вдруг
уставал, сутулился,
взгляд его
угасал, он
делал над
собой усилие
и на предложение
помочь ему
разжимал
губы и вылеплял
ими одно и то
же, такое
важное для
него слово:
"алэйн"
"сам".
Осенью
пошли дожди,
но отец, уже
достаточно окрепнув,
продолжал
выходить из
дома,
подставлял
лицо
дождевым струям,
ловил воду
ртом и
радостно
повторял:
"Рэгн! Рэгн!"
("Дождь!
Дождь!")
Отец
ежедневно
сжимал
каждой рукой
маленький
мячик,
сначала
раз-другой,
потом до десяти,
двадцати,
тридцати, ста
раз, он уже
ходил по
городу, мама
говорила:
"Снег,
скользко!"
он смеялся:
"Шнэй! С'из
с'из гит а шнэй!
("Снег! Это
это хорошо
снег!")
Когда
я сообщил
родителям,
что моя
свадьба с
Верой
назначена на
шестое
февраля, мне
было ясно,
что они в
Свердловск
не поедут.
Мама даже
написала
моей будущей
тёще письмо:
мы старые
больные люди,
нам не по
силам такая поездка,
на наш приезд
не рассчитывайте.
Тёща
обиделась, но
свадьбу, конечно,
отменять не
стали. Вдруг
телефонный звонок:
встречайте.
Мои родители
приехали на
свадьбу! Они
сидели
вместе со
всеми за
столом, мама
наклонялась
к отцу:
Хочешь выйти
полежать?
Он
отмахивался,
а потом встал
и сказал:
Я хочу
спеть вам
еврейскую
свадебную
песню.
И
запел. У отца
был приятный
домашний
баритон, в
компаниях он
всегда был
заводилой и
запевалой.
Теперь не
хватало
дыхания, отец
останавливался,
пережидал и
продолжал,
пока не допел
песню до
конца.
Плясать
он, конечно,
не мог,
только
смотрел, как
танцуют
другие, и
притопывал
под столом в
такт музыке.
И
вдруг:
Встречай,
сказала
телефонная
трубка маминым
голосом.
Что?
Кого?
"Отец
совсем плох,
решил я, дни
его сочтены,
мама решила
ни на один
час не оставаться
вдали от нас
после того
как
"
Нас. Мы
едем к вам.
Кто
мы? на всякий
случай
спросил я.
Папа и
я, ответила
мама.
Всё
произошло,
как в сказке.
Пришла
карета "скорой
помощи" с
санитарами,
отца на носилках
вынесли из
дома и
положили в
машину. Мама
села рядом.
Грузовик с
грузчиками
подошёл
несколькими
минутами
раньше, вещи
погрузили в
кузов
 Документы,
визы, билеты,
багажные
квитанции
всё было
заранее оформлено,
в аэропорту
Челябинска
проверка багажа
и посадка в самолёт
прошли без
сучка, без
задоринки, в
самолёте заранее
были
разобраны
два смежных
кресла, на их
место
установили
носилки, закрепили,
на отца
надели привязные
ремни
Взлёт!
Документы,
визы, билеты,
багажные
квитанции
всё было
заранее оформлено,
в аэропорту
Челябинска
проверка багажа
и посадка в самолёт
прошли без
сучка, без
задоринки, в
самолёте заранее
были
разобраны
два смежных
кресла, на их
место
установили
носилки, закрепили,
на отца
надели привязные
ремни
Взлёт!
Оставалось
последнее
пересадка в
Москве.
В
Москве были
Володя
Слепак, Юлик
Кошаровский,
он к тому
времени уже переехал
из
Свердловска,
москвичи оформили
ему
фиктивный
брак и
столичную
прописку. Я
созвонился с
ребятами, и о
моих родителях
позаботились.
С особой благодарностью
мама
называла имя
Раддая
Райхлина,
человека мне
незнакомого,
но, по всей вероятности,
доброго и отзывчивого.
Он, надо
полагать, в
конце концов
приехал в
Израиль, мне
попадалось
на глаза его
имя в
каких-то
газетах, но встретиться
и пожать ему
руку как-то не
довелось
 Твои
старики
большие
молодцы,
сказал по телефону
Юлик
Кошаровский.
Твои
старики
большие
молодцы,
сказал по телефону
Юлик
Кошаровский.
Спасибо,
ребята
Мы
въехали на
полосу, когда
к самолёту
подъезжал
трап.
Я знал:
сейчас
раскроется
дверь, выйдут
члены
экипажа, за
ними начнут
спускаться
пассажиры,
это продлится
минут
двадцать-тридцать,
можно перевести
дух,
справиться
со спазмами в
горле, приготовить
улыбку,
отрепетировать
бодрые нотки
в голосе.
Когда выйдет
последний
пассажир, я
поднимусь на
борт,
расцелуюсь с
мамой,
наклонюсь над
отцом, потом
мы вынесем
носилки
Всё
развивалось
по сценарию:
отворилась
дверь, вышел
экипаж, две
девушки в
униформах
встали по обе
стороны
верхней
площадки
маленькая
заминка
Боже
мой!
Боже
мой! Опираясь
на мамино
плечо, подняв
страдальчески-счастливые
глаза
навстречу
солнцу,
прямой,
высокий,
стройный,
вознесённый
трапом под
самое небо,
передо мной,
надо мной, над
толпой
прибывших на
Святую Землю
людей стоял на
собственных
ногах! стоял
мой отец.
Потом
мама
рассказывала:
Я
наклонилась
к нему,
говорю:
"Сейчас все выйдут,
и мы тебя
вынесем, мы
уже прилетели,
машина ждёт
внизу". А он
"алэйн!" Я спрашиваю:
" Вус алэйн?
Что алэйн?" А
он повторяет:
"алэйн!" и
пытается
опереться о
мою руку. Тут
помогли
другие
пассажиры, он
приподнялся,
встал и
пошёл! Сам!
Алэйн! Я иду с
ним рядом,
придерживаю
его, а он отталкивает
меня: "алэйн!"
Идёт, я ему
подставляю
плечо, и он
идёт!
С той
минуты,
первой своей
минуты на
Земле Израиля,
и до самой
кончины
летом 1979 года, в
течение
шести с
половиной
лет отец
ходил, ездил,
побывал в Иерусалиме,
коснулся
ладонью
камней
Западной
Стены
Иерусалимского
Храма Стены
Плача, гулял
по улицам
Беэр-Шевы,
встречался с
людьми,
слушал радио,
смотрел
телевизионные
передачи,
бывал на
концертах,
читал газеты
жил. Врачи
объясняют:
шок. А для
меня чудо
"С вас
причитается",
сказал мне
начальник отдела
СЦБ
израильской
железной
дороги Марк
Иосифович
Лозар,
торжественно
объявив о
досрочном
предоставлении
мне пресловутого,
такого
порочного и
такого
желанного
"квиюта". "С
вас
причитается",
сказал Лозар,
и это были не
пустые слова.
С меня в
самом деле
причиталось.
Общие
собрания, а
нередко и
хорошо
проспиртованные
междусобойчики
обычно проводились
на
телефонной
станции в
Лоде, это на
полпути
между Хайфой
(там
находилось
Главное
дорожное
управление и
там же
технические
службы
Северного
округа) и
Беэр-Шевой
(Южный округ).
Лозар кидал
клич, и все
электрики,
связисты и
"эсцебисты"
съезжались в
Лод в
условленный
день к
назначенному
времени.
"С
вас
причитается",
сказал
Лозар, и я
знал, что эта
фраза равнозначна
приказу "свистать
всех наверх!"
Но
Встречай,
сказала мама.
Нас. Мы едем к
вам. Папа и я.
С вас
причитается,
в очередной
раз напомнил
Лозар, он
часто
наведывался
к нам в Беэр-Шеву.
Я
мялся, что-то
бубнил, но
шеф был
непреклонен:
Вы долго
тянете, вас
неправильно
поймут.
Наконец,
я решился.
Марк
Иосифович,
мои старики
папа и мама
Они должны
приехать.
Поздравляю.
Когда?
Скоро, очень
скоро. Я хочу
дождаться их
приезда.
Тогда и
обмоем всё
единым разом.
Лозар
расплылся в
улыбке.
Вы большой
молодец! Люди
поймут вас
правильно.
И
вот
Марк
Иосифович,
завтра я не
выйду на
работу, дайте
мне день
отпуска.
Что-нибудь
случилось?
Прилетают
мои родители
Мама с папой.
Завтра.
Поездка
в Лод второй
дальний вояж
моих родителей
по Израилю
(не считая
дня приезда
переезда из
аэропорта
домой).
Первая поездка
была в
Иерусалим.
Мы
подогнали
машину ближе,
насколько
это было
возможно, к
Стене Плача.
Вот
она.
Отец
повернул
голову и
проследил за
моей рукой.
Исхудалые
плечи его
вздрогнули, голова
откинулась
назад, он
всхлипнул, и
слёзы,
несдерживаемые
слёзы
потекли по
его всё ещё
неморщинистым,
несмотря на
возраст и болезнь,
щекам.
Ноях, Ноях,
вэйн нит,
испугалась
мама. Вэйн нит,
мир зайнэн
шойн ду! С'из а
гройсэ симхэ,
Ноях, мэ дарф
нит вэйнэн,
Ноях, мэ миз
фрэйлэх зайн,
зингэн, лахн,
зэйст, Ноях:
с'из а Койсл
а-Маарáви, вэйн
нит!*
Их
вэйн? сквозь
всплески
рыданий
проговорил
отец. Их вэйн
нит. Их лах,
вус кэн мэн
тин, азой лах
их.**
* Ноях,
Ноях, вэйн
нит,
испугалась
мама. Вэйн
нит, мир
зайнэн шойн
ду! С'из а
гройсэ симхэ,
Ноях, мэ дарф
нит вэйнэн,
Ноях, мэ миз
фрэйлэх зайн,
зингэн, лахн,
зэйст, Ноях:
с'из а Койсл а
Маарави, вэйн
нит! (идиш)
Ной, Ной, не
плачь,
испугалась
мама. Не плачь,
мы уже здесь!
Это большая радость,
Ной, не нужно
плакать, Ной,
нужно радоваться,
петь, смеяться,
видишь, Ной:
это Западная
Стена (Западная
Стена
Иерусалимского
Храма Стена
Плача), не
плачь!
** Их вэйн?
сквозь
всплески
рыданий
проговорил
отец. Их вэйн
нит. Их лах,
вус кэн мэн
тин, азой лах
их. (идиш) Я
плачу?
сквозь
всплески
рыданий
проговорил
отец. Я не
плачу. Я
смеюсь, что
можно поделать,
так я смеюсь.
Он
потянулся к
двери,
намереваясь
распахнуть
её.
Ты
никуда не
пойдёшь!
безапеляционно
заявила мама.
Ты не дойдёшь,
ты свалишься,
тебе сначала
надо
окрепнуть.
Я
пойду,
категорично
проговорил
отец на идише.
Русский всё
ещё давался
ему с трудом.
И дойду, и
окрепну,
можешь мне
поверить.
И он
пошёл.
Упрямство
моего отца
родилось раньше
него
Он
подошёл к
Стене Плача,
дошёл сам,
алэйн.
А
теперь на
нашем
служебном
"Форде" мы
ехали в Лод.
За рулём
сидел Шмуэль,
пассажирами
были мама,
отец, я и наш
слесарь, алжирец
Гаврила. Всю
дорогу он
наслаждался,
разговаривал
с мамой
по-французски.
Отец смотрел
на маму
влюблёнными
глазами,
видно было:
он гордится
ею!
Столы
стояли
буквой "П",
все уже
расселись, "в
тесноте, да
не в обиде",
блеснул
Лозар знанием
русского
фольклора.
Мы
вошли, и все
разом
зааплодировали.
Отца протолкнули
к "царскому"
месту к центру
стола, там, в
"красном
углу", его
ожидало
удобное кресло.
У отца
блестели
глаза, держался
он молодцом,
правда, губы
подрагивали.
Рядом
с отцом
присела мама,
маленькая,
седая и в то
же время
грациозная,
приподнятая:
подумать
только, ведь
это в честь
её сына, её Илюши,
собрались
все эти люди,
такие важные
и образованные,
и умные, и все
они евреи, а
евреи, да ещё
в
собственной
стране, не
могут не быть
умными, очень
умными,
самыми
умными на всём
белом свете.
К тому, что
вокруг все
евреи, надо
было ещё
привыкнуть.
Для
отца в
пластмассовую
стопку
налили водки
до краёв.
Мама
испуганно
замахала руками:
что вы, что вы,
ведь он
прибыл сюда
прямиком с
того света,
ему нельзя,
что вы! Она
говорила на
всех
доступных ей
языках:
русском, украинском,
польском,
немецком, французском,
идише, а отец
строго
взглянул на
неё и сказал:
Айнт
из майн туг,
айнт вэл их
тринкэн азой
фил, выфл их
вил. Гист мир
ун!*
* Айнт из
майн туг,
айнт вэл их
тринкэн азой
фил, выфл их
вил. Гист мир
ун! (идиш) Сегодня
мой день,
сегодня я
буду пить
столько,
сколько хочу.
Налейте мне!
Тон
задал Лозар,
он говорил
по-русски и
на иврите
одновременно,
и из его
тоста мои
родители
узнали, какое
сокровище
они произвели
на свет,
воспитали и
прислали в
Израиль. Марк
Иосифович не
скупился на
добрые слова,
все прилагательные,
относившиеся
ко мне,
употреблялись
им в самой
превосходной
степени, и
отец плакал и
смеялся, а
мама поманила
меня пальцем:
наклонись ко
мне и удивлённо
и радостно
сказала:
Я всё
понимаю!
Представляешь?
всё, что он говорит,
я понимаю!
Давным-давно,
ещё в пору
доисторического
материализма,
в доме
маминых
родителей
было принято
обучать
детей
древнееврейскому
языку, и хотя
дед был
далеко не
богат, однако
частных
учителей
приглашали
пока не пришли
к власти
большевики,
тогда древнееврейский
был признан
языком
религиозного
культа и
достоянием,
даже тайным
оружием!
националистической
буржуазии, и
посему язык
решительно
запретили и изъяли
из
употребления.
Мама,
младшая в
семье,
родилась 3
октября 1908 года,
к 25-му октября
1917-ого ей только-только
стукнуло
девять лет.
Позаниматься
с частным
преподавателем
ей не
довелось, но
в первые свои
сознательные
годы она
любила (вся в
мою Рахельку!)
крутиться
под ногами
на занятиях
старших
братьев и
сестёр и, как
оказалось,
кое-чего она
нахваталась.
Я всё
понимаю! Я
всё понимаю!
повторяла
мама.
(Через
неделю после
приезда она
без труда объяснялась
на улице,
через две
недели читала
газету для
репатриантов
на лёгком
иврите, через
месяц
слушала
радиопередачи
)
Теперь
же, в Лоде, на
третий или
четвёртый
день после
приезда, моя
мама встала и
сказала:
Ани
гам роца
ломар. Так?
спросила она
Лозара. Ани
мэдабэрэт
нахон?*
* Ани гам
роца ломар.
Так?
спросила она
Лозара. Ани
мэдабэрэт
нахон? (иврит)
Я тоже хочу
сказать. Так?
спросила она
Лозара. Я
разговариваю
правильно?
Нахон-нахон,
подбодрил
Лозар, и все
согласно
закивали и
зааплодировали
моей маме:
"Нахон,
нахон".
Тщательно
подбирая
слова,
вытаскивая
их из глубин
памяти, мама
произнесла
целую речь на
языке,
который в
галуте евреи
называют
святым,
небольшую,
недлинную, но
первую в её
жизни речь в
Израиле на
иврите.
После
мамы
заговорил
отец. Он
сделал попытку
встать, но
ему на всех
языках
закричали: сиди,
не вставай,
мы прекрасно
видим и слышим
тебя!
Однако
отец встал.
Он поднял
пластмассовую
стопку, рука
его дрожала,
содержимое
стопки
выплескивалось
на белую бумажную
скатерть,
тогда отец поддержал
трясущуюся
левую руку
правой рукой
и сказал:
Их вэл
асах нит
рэдн. Х'вил
айх нор зугн:
их данк айх.*
Сказал
и всхлипнул.
Стопка наклонилась,
но кто-то
вовремя
успел перехватить
её, сохранив
на донышке
остатки
священного
напитка.
Отец, опять
двумя руками,
поднял стопку,
запрокинул
голову и
вплеснул
остатки содержимого
в рот.
Ицтэр
кэн их
штарбн,
прорыдал он.
Ицтэр
музт ир лэбн!
словно
приказал
кадровик
Лембергер.
Ja-ja, jezt müssen Sie leben,
поддержал
сотрудника в
кожаной
тужурке Тальмон
в вельвете.**
Тепер ви
дóлжны жит,
повторил он,
наверное,
по-сербски, а,
может быть, решил,
что говорит
по-русски.
Все
закричали:
"Лэхаим!"***
Тост
прозвучал
как наказ,
его следовало
принять к
исполнению.
* Их вэл
асах нит
рэдн. Х'вил
айх нор зугн:
их данк айх. (идиш)
Я не буду
много
разговаривать.
Я хочу вам
только
сказать: я
благодарю
вас.
** Ицтэр
кэн их штарбн
прорыдал он. (идиш)
Теперь я
могу умереть,
прорыдал он.
Ицтэр
музт ир лэбн!
словно
приказал
кадровик
Лембергер. (идиш)
Теперь вы
должны жить!
словно
приказал кадровик
Лембергер.
Ja-ja, jezt müssen Sie leben,
поддержал
сотрудника в
кожаной
тужурке Тальмон
в вельвете. (немецкий)
Да-да, теперь
вы должны
жить,
поддержал
сотрудника в
кожаной
тужурке
Тальмон в
вельвете.
*** Лэхаим! (ивр.)
За жизнь! Общепринятый
тост.
Не
знаю, уяснил
ли это для
себя отец
тогда, однако,
наказ
исполнил,
вернее
сказать,
исполнял
некоторое
время
Отец
умер летом 1979
года. Я уже
работал на
Мёртвом море,
перешёл в семьдесят
восьмом с
железной
дороги. Мне
позвонили из
больницы, я
кинулся к
проходной
поймать
попутку,
чтобы
добраться
хотя бы до
какого-нибудь
населённого
пункта, от
которого в
Беэр-Шеву
ходят автобусы.
Вахтёр
крикнул мне,
что у
шлагбаума
остановилась
машина, в
которой наш
заводской
промышленный
врач едет по
делам в
беэршевскую
больницу. Я
обрадовался:
мне повезло,
с Борей мы
были почти в
приятельских
отношениях. Я
кинулся к
машине.
Я
люблю ездить
один,
равнодушно
отрезал Боря.
У меня
умер отец,
мне нужно
добраться до
больницы, там
мама, взмолился
я.
Я
люблю ездить
один,
повторил
доктор Боря и
тронул плечо
водителя. Са!
(на иврите
Езжай!)
Вскоре
к шлагбауму
подошёл
самосвал.
Залезай!
крикнул
парень из
проходной,
он довезёт
тебя до
Димоны.
Тут я
вспомнил, что
у меня нет
денег на автобусный
билет от
Димоны до
Беэр-Шевы.
Парень сунул
мне в карман
ассигнацию и
подсадил в кабину.
Как
тебя зовут?
крикнул я
ему. Самосвал
тронулся.
Ответа
я не
расслышал.
Игорю
шёл
восемнадцатый
год, он
учился в техническом
училище, жил
в Хайфе, приезжал
домой лишь на
пятницу и
субботу, ради
этих
приездов 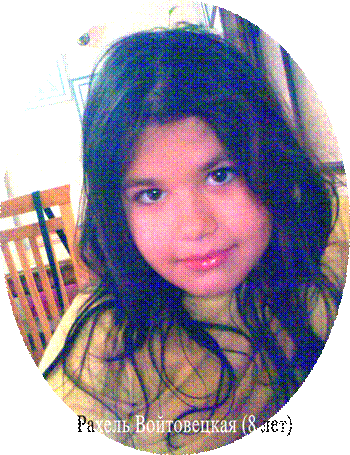 приходилось
хорошо
учиться.
приходилось
хорошо
учиться.
Похороны
назначили на
тот же день,
на пять часов
вечера. Вера
позвонила в
училище.
Учения,
курсанты в
поле,
ответила дежурная.
Узнав, в чём
дело,
пообещала: Я
сообщу руководству,
мы его
отзовём и срочно
отправим
домой. Мы постараемся.
Они
постарались,
но Игорь добрался
до дома лишь
назавтра.
Деда
похоронили
без него. Мама
плакала:
Папа
так любил
его, Игорёк
так похож на
деда! Как же
это?
Маме
шёл
семьдесят
второй год.
Чтобы
отвлечься от
невесёлых
дум, она продолжала
работать
без зарплаты,
на иврите это
называется
"бэ-hитнадвут"
добровольно,
т.е. на
общественных
началах. Мама
нашла себе
применение в
бухгалтерии
Дома солдата.
Всю жизнь она
работала бухгалтером,
хорошо знала
и, как ни
странно,
любила эту,
казалось бы,
сухую, лишённую
полёта профессию.
По утрам за
мамой присылали
машину, в
конторе у неё
было рабочее
место, к ней
обращались
за советами,
поручили отдельный
участок
работы. Так,
среди людей,
окружённая
вниманием,
она
проводила дни.
По
вечерам,
выгуливая
мою собаку,
немецкую овчарку
Дуби, я
доходил до
маминого
дома, Дуби
получала
свою порцию
колбасы, а
мама взрыв
собачьей
благодарности.
Завтра
годовщина
папиной
смерти,
сказала мама.
Приди
вечером, обязательно.
Придёшь?
Конечно.
Дуби
радостно
вильнула
хвостом, она
понимала
человеческую
речь.
"Если
хочешь рассмешить
Бога,
поделись с
Ним своими
планами
"
На
работе, во
время
обеденного
перерыва, мама
почувствовала:
сердце. Обычно
выручал
нитроглицерин:
таблетку под
язык, и
отпускало. А
тут
лекарство в
сумочке, сумочка
в
бухгалтерии,
дверь
заперта,
сотрудники ушли
обедать, а
пообедавшие
разбрелись
по территории.
Стали
искать ключ.
Потом в
комнате
искали сумочку,
в ней много
разных
таблеток, среди
них нашли,
наконец,
нитроглицерин.
Мама уже была
без сознания.
Вызвали
скорую.
Мне
позвонили на
работу: мать
в больнице.
Когда я
добрался до
Беэр-Шевы и
пришёл в
приёмный
покой, мне
выдали
мамину
золотую
цепочку
Она
пережила
отца ровно на
один год.
На
мамины
похороны
старший внук
успел, он уже
закончил
училище,
служил на
авиационной
базе под
Беэр-Шевой и
почти
ежедневно
бывал дома.
Папа и
мама
покоятся на
старом
кладбище в Беэр-Шеве.
Вика моих
родителей не
знала, я познакомился
с ней в 1993-м,
когда их уже
не было. Но на
кладбище она
приходит со
мной. Наша маленькая
Рахелька (ей
теперь 9 лет)
очень похожа
на мою маму и
внешне, и
особенно по
характеру,
темпераменту,
даже какие-то
мелкие её
привычки напоминают
мне мамины.
Она
любит моих
родителей
по моим
рассказам, а
приходя на
кладбище, стоит
над могилами
и плачет,
горько,
искренне,
шмыгая по-детски
носом. Меня
это трогает,
к горлу
подкатывает
ком.
Сыновья,
насколько я
знаю, на
могилах деда
и бабки
никогда не
бывали. Бог
им судья
 Ещё раз
про отца
Ещё раз
про отца
С
продырявленной
головой
трижды
раненный, но
живой,
с
чувством горечи
и вины
возвратился
отец с войны.
Часто
видел отец во
сне,
что
погиб он на
той войне,
что,
когда их
послали в
бой,
óн
убит был, а не
другой.
Ну,
а мама, его
вдова,
только
тем она и
жива,
что,
помимо иных
забот,
возвращенья
солдата ждёт.
Мама-мама,
вернётся он,
но
сперва
пусть
досмотрит
сон.
17 августа
2005 года.