ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА
Когда
страна быть
прикажет
героем,
у
нас героем
становится
любой.
В.Лебедев-Кумач.
После
каждого
экзамена
Илюша
разговаривал
с мамой по
телефону.
Такая была у
них договорённость:
к пяти часам
он приходил
на центральный
переговорный
пункт и в
духоте
многолюдного
зала август
в пятьдесят
четвёртом
выдался
жарким ждал
вызова в
кабину.
На
этот раз
Евгения
Ильинична
прибыла на переговорный
пункт лично
так сказать,
собственной
персоной.
План
она
разработала
простой до
гениальности.
Перед выездом
из Копейска
сообразительная
родительница
заказала на
десять часов
следующего
утра с
доставкой
уведомления
междугородный
телефонный
разговор с
сыном. Поезд
прибывал в
Свердловск
около восьми,
двух часов,
как она
рассчитала,
ей вполне
хватит на то,
чтобы в
незнакомом
городе от
железнодорожного
вокзала
добраться до
центральной почты.
Ничего
не
подозревавший
молодой
человек не
торопясь
вышел из
трамвайного
вагона, размеренным
шагом
пересёк
громыхавшую
транспортными
средствами
улицу Ленина
и поднялся на
две ступени
главпочтамта.
На третьей ступени
стояла
улыбавшаяся
мама.
Что ты тут
делаешь? С
кем же я буду
разговаривать?
Мать
прижалась
щекой к его
плечу.
Со мной. Я с
тобой, а ты со
мной.
Ты надолго?
Устрою тебя
на квартиру и
уеду. Переночую
у Кацев.
Ох,
уж эти
еврейские
родственные
отношения!
У
мамы была
старшая
сестра тётя
Сабина, жила
она в
Челябинске.
Тётисабинин
муж дядя Яша
там же, в
Челябинске,
имел
старшего
брата дядю
Мишу. Одна из
двух
дядимишиных
дочерей,
молодой
специалист,
врач,
дядимишина
гордость
доктор Уля
вышла замуж
за
пятидесятилетнего
старого холостяка,
большого
начальника в
управлении Средне-Уральской
железной
дороги Эмму
Каца, который
жил в
Свердловске
в ведомственной
квартире по
улице 8 марта
около Дома
крестьянина.
("Ты знаешь,
где эта улица
Восьмого
марта? И Дом
крестьянина",
спросила
мама. Илюша пожал
плечами.) С
Эммой Кацем в
четырёх комнатах
его квартиры
проживали:
его восьмидесятилетняя
мать, её
девяностолетняя
сестра (врач
и старая
дева), ещё
сорокалетняя
астматичка
тётя Соня,
Эммина
сестра, рыхлая
дама без
определённых
занятий, со
своим
четырнадцатилетним
сыном Лёвкой,
да ещё младший
Эммин брат
Изя, но у того
"имелась женщина
с
жилплощадью",
у неё и на ней
у женщины на
жилплощади
он проводил
ночи, а
иногда и дни
(Изя нигде не
работал и жил
"на её кóши").
Только тебя у
них не
хватало,
ухмыльнулся сын.
А что?
удивилась
Евгения
Ильинична.
Разве я их
стесню?
Нисколько.
Ну, если так
Пойдём
искать улицу
Восьмого марта.
Около Дома
крестьянина,
уточнила
мама.
о
С
чего начать?
Куда
направить
стопы? Незнакомый
город,
разношёрстная
бесцветная
толпа, грохот
трамваев,
перекличка и
перебранка
автомобильных
клаксонов
так не похоже
на Копейск,
где если не
каждый
прохожий, то через
одного друг,
приятель или,
по меньшей
мере,
знакомый.
Скажите, вы
случайно не
евреи?
В
1954 году в
центре очень
большого,
очень советского,
очень
индустриального
города возможность
постановки
вслух такого
вопроса как
теперь
говорят
нонсенс.
Такого быть не
могло, потому
что
без
всяких
"потому что":
в 1954 году в
центре
большого
советского
индустриального
города
подобного
вопроса
никто задать
не мог.
Тем
не менее в 1954
году в центре
Свердловска
большая
полная
женщина с
разнонаправленными
глазами
остановила Илюшу
и его маму и
спросила:
Скажите, вы
случайно не
евреи?
Непонятно
было, на кого
женщина
смотрит.
Почему
случайно?
Совсем даже
не случайно, мужественно
возразила
Евгения
Ильинична.
Женщина
перешла на
белорусский
идиш. Она представила
стоявшую рядом
с ней
худосочную
особу
женского
пола лет
восемнадцати
от роду:
Майн тóхтер.
Дайн тáйэрэ
тóхтер,
уточнила
тохтер.
Восемнадцатилетняя
особа
женского
пола приходилась
женщине
дочерью
(даже, как выяснилось,
дорогóй
дочерью).
Ещё
два-три
вопроса,
два-три
ответа, и обе
стороны
знали друг о
друге всё.
Почти всё.
Новые
знакомые
жили в
Свердловске
с начала
войны, у них
тут
неподалёку, в
самом центре
города,
четырёхкомнатная
благоустроенная
квартира,
тайэрэ
тохтер
поступила в
энергетический
техникум.
Мир вэлн зайн
цуфридн айх
цу hэлфн,
сказала новая
знакомая,
глядя одним
глазом на
мать, другим
на сына. Вся
её семья,
стало быть,
рада помочь
еврейскому
молодому
человеку и
его маме
найти
недалеко от
их дома
подходящее
жильё. Дайте,
я запишу вам
наш адрес. Чтобы
вы знали. Это
близко,
приходите к
нам вечером.
Мой Яков
Израилевич
будет рад.
Так
они
познакомились
с семьёй
Еренбургов.
о
У нас
кошерный дом
то ли заявил,
то ли предупредил
Яков
Израилевич,
как только
званные
гости
переступили
порог, и добавил:
насколько
это возможно
в условиях
советской
власти.
Без
дополнительных
пояснений,
лишь по тону,
каким
уточнение
было
произнесено,
стало понятно,
что
советскую
власть в этом
доме не
жалуют.
Яков
Израилевич
успел в своё
время закончить
ешúву, гордо
сообщила
Софья Ефимовна.
Ешибóт,
поправил
жену бывший
ешúвэ-бóхер*. Он
был
низкорослый,
сухой,
горбатый,
очень старый,
говорил
желчным
надтреснутым
голосом и
после каждой
произнесённой
куда-то вниз,
в невидимую
преисподнюю,
фразы
вскидывал
носатую
голову и
устремлял короткий
цепкий
взгляд в лицо
собеседника. У
того,
непонятно
почему,
возникало
беспричинное
чувство вины.
*
ешúвэ-бóхер (идиш)
ученик
специального
еврейского
религиозного
учебного
заведения.
Фамилия у нас
Эренбург,
пояснял за
обеденным
столом Яков
Израилевич.
Через "Э"
оборотное.
Белорусы "Э"
оборотное не
признают, они
пишут "Е". С
Ильёй
Эренбургом
мы
родственники,
даже не такие
и дальние.
Мой прадед и
его прадед
начал он
углубляться
в семейную
родословную
Ох,
уж эти
еврейские
родственные
отношения!
Наша Инночка
совсем не
бесприданница,
не подумайте,
вставила
Софья
Ефимовна
своё замечание,
показавшееся
ей
необходимым
и уместным, и
долгим
взглядом
посмотрела
одновременно
на Илюшу, на
маму и на мужа.
Мы с Яковом
Израилевичем
положили на
её книжку
пятьдесят
тысяч.
Правда, Яша?
Пусть она
будет нам
здорова,
кивнул Яков Израилевич,
опуская
ложку в
тарелку с
куриным
бульоном.
На
второе Софья
Ефимовна
подала
блинчики, начинённые
рисом и
мясным фаршем.
Грибной соус
аппетитно
благоухал
чесноком и
укропом.
Потом
пили чай с
домашним
печеньем.
Мы стоим в
очереди за
машиной,
расставляла
флажки Софья
Ефимовна.
Машину мы
обязательно
запишем на
Инночкино
имя. Правда,
Яша?
Пусть она
будет нам
здорова,
опять кивнул
Яков
Израилевич и
отхлебнул из
большого
стакана,
вправленного
в серебряный
с позолотой
подстаканник.
Трапеза
благополучно
закончилась,
мама осталась
в гостиной с
Инниными
родителями, а
молодого
человека
девушка
увлекла в апартаменты.
Это комната
моего брата.
Он придёт
поздно. Или
совсем не
придёт. Он у
Аллы, у неё
комната при институте,
она
микробиолог,
кандидат
наук. Абрам
тоже
кандидат
наук, юрист,
но теперь он
безработный
Садись-садись,
не стесняйся.
Ведь мы на
"ты", правда?
Илюша
топтался
около дивана.
Электричество
Инна не включила,
из
сумеречного
окна
струился
угасающий
вечерний
свет.
Он
преподавал в
Томске, а в
позапрошлом
году стали
увольнять
евреев. Абрам
вернулся в
Свердловск,
вот с нами
теперь и
живёт. Временно.
Они с Аллой
скоро
распишутся,
тогда он
переедет к
ней. Комната
снова станет
моей. Да
садись же ты!
она потянула
Илюшу за
рукав, и он
плюхнулся
рядом с
девушкой.
Инна
засмеялась,
притянула его
к себе и
чмокнула в
губы.
У тебя есть
девушка?
спросила и
тут же без перехода
сообщила: У
меня есть
молодой
человек. Мы с
ним целуемся.
И не только. А
ты?
Я?
Ну да, ты, Инна
громко
захохотала.
У
неё были
большие
редкие зубы,
верхние наклонно
выдавались
вперёд. Прямо
из впалой груди,
казалось,
росли тонкие
руки. Булькающая
картавость
делала голос
Инны истеричным.
Потом
они
вчетвером
молодые люди
и их мамы
отправились
договариваться
с будущей квартирной
хозяйкой
новоиспечённого
свердловчанина
и студента.
о
Инна
явилась
назавтра.
У вас в
институте
вечер на металлургическом.
Мой Юра
достал два
билета, но
сам он
вечером
занят.
Само
собой
разумелось,
что
обладателем
второго
билета стал
Илюша.
Вечер
посвящался
окончанию
вступительных
экзаменов.
Какие-то
второразрядные
факультетские
чины
произносили
дежурные речи.
Выступала
самодеятельность.
Запомнились
фамилии
ведущих: Поль
и Пчёлкин.
Пэ-Пэ,
сказала Инна.
Их знает
весь город.
Их любят все
девушки.
Потом
танцевали
под радиолу.
Инна сильно прижималась
и виляла
задом. От неё
пахло чесноком
и укропом, но
это было не
так
аппетитно,
как в грибном
соусе.
Здание
называется
"третий
учебный
корпус". Я
знаю тут
каждый
уголок.
Она
придержала
шаг.
На втором
этаже есть
комната
Пойдём туда целоваться.
Девушка
потянула
Илюшу за локоть.
Побежали,
пока там не
все места
заняты.
Комната
была
небольшая,
обычная
классная комната:
узкие чёрные
потёртые
столы, стулья,
на стене
доска.
Тут всегда не
заперто.
В
тёмной
комнате уже
обжимались
две пары одна
стоя, у окна,
из которого
просачивался
дистрофичный
свет уличных
фонарей,
вторая сидя
он на столе,
она у него на коленях.
На
вошедших
никто не
обратил
внимания. Илюша
задержался в
дверном
проёме,
помедлил.
Пойдём лучше
потанцуем.
Инна
потянула его
в полумрак
комнаты:
Ты так любишь
танцевать
или так не
любишь целоваться?
Пойдём, а
С тобой
скучно. Инна
вышла и
притянула за
собой дверь.
Мне, она
сделала
ударение на
этом слове, с
тобой скучно.
С тобой,
теперь она выделила
эту часть
фразы, мне
скучно
Мой Юра
не упустил бы
такой
возможности
У Юры только
мама еврейка,
рассказывала
на ходу Инна. Папа
был русский,
он погиб на
фронте, Юру
вырастила
мама. Но он
записан по
отцу Лобанов.
Хотя вылитый
еврей. А мои
предки хотят
полного
еврея. Ты им
понравился.
Танцы
всё ещё
продолжались,
но танцевать
не хотелось.
Они
беседовали,
стоя у стены.
Файка,
привет!
Я не Файка,
теперь я
Инна.
С каких пор?
Со вчера, с
десяти часов
утра.
Ну, если так
Привет, Инка!
Знакомься.
Илюша
поступил в
институт, в
вашем полку
прибыло. Исай
Печатников,
представила
она молодых
людей.
Исай
протянул
маленькую,
лодочкой,
руку, манерно
наклонил
голову,
притопнул
каблучком.
Очень
приятно.
Вы соседи,
сказала Инна,
обращаясь к
Исаю: Он снял
угол у тёти
Лизы,
напротив
вашего дома.
Будете по
утрам
встречаться
у колонки.
Исай
рассмеялся
открыто,
дружелюбно:
Романтично:
сцена у
колонки!
Привет,
Файка!
Здорово,
Исай!
Они теперича
Иннесса
Яковлевна.
Не Иннесса, а
Инна. А это
Илюша,
знакомься. Он
поступил в
институт.
Откуда?
Откуда?
повторила за
ним вопрос
Инна.
Из Копейска.
Слава
советским
шахтёрам!
Горняк?
Самая, между
прочим,
еврейская
профессия: мы
всё достаём
из-под земли.
Григорий.
Гриша
Талаловский,
уточнила
Инна. Самый эффектный
мужчина на
металлургическом.
Григорий
был на
полторы
головы выше
совсем не
маленького
Илюши.
Вьющиеся чёрные
волосы,
чёрные
чуть-чуть
навыкате глаза,
широкие
плечи,
которые,
впрочем, не
делали его
шкапом
благодаря
росту. Рядом
с Григорием
низкорослый
Исай
Печатников
выглядел
почти
карликом.
У Исая разряд
по штанге,
шепнула Инна.
Исай
услышал.
А у Гриши
разряд по
успеху у дам,
засмеялся он.
А у Файки
pardon, у
Иннессы
У Инны!
у
новоявленной
Инны разряд
по бегу на
короткие
дистанции
за
необъезженными
чуваками,
съязвил
Григорий.
Чур на
новенького,
поздравляю,
кивнул он
Илюше.
Инна
решила
обидеться,
насупилась и
отвернулась,
но
передумала и
деланно
засмеялась.
Домой
шли
вчетвером,
болтали, Исай
оказался
неисчерпаемым
кладезем
анекдотов и
рассказывал
их смешно.
Гриша слушал
и снисходительно
похохатывал.
Инна держала
Илюшу под
руку.
Август
стоял тёплый,
зелёный,
сквозь густую
листву
светили
запутавшиеся
в кронах тополей
уличные
фонари.
Они
шли по
Пушкинской.
Прохожие
встречались
редко, машин
не было
совсем.
А вот наш
знаменитый
Дом
работников
искусств,
ДРИ,
отвлёкся
Исай от
очередного
анекдота.
Знаменитый?
переспросил
Илюша. Чем?
ДРИстоловой,
ответил
Григорий.
Это кафе так
называется.
Там подают
отменную
солянку с
почками и с
чёрными
маслинами. А
наши местные
гурманы
выплёвывают
маслины в
пепельницы.
Не в коней
корм.
А Гришка,
съязвил Исай,
ходит между
столами и
собирает
урожай. Потом
заказывает
пиво и
закусывает
чёрными
маслинами из
чужих пепельниц.
Имеет анóэ*.
* аноэ (идиш)
удовольствие.
Утром общее
курсовое
собрание,
задумчиво
сообщил
Илюша.
Всех
отправят в
колхоз,
сказал
Григорий.
Оденься
потеплее и
возьми плащ,
посоветовал
Исай.
Начиналась
настоящая
студенческая
жизнь.
о
Абраму
Яковлевичу
недавно
исполнилось
двадцать девять,
брат был на
одиннадцать
лет старше
Инны. Большой
и
разноглазый,
как мать, он
так же, как
сестра,
булькающе
картавил.
Я привёз из
Томска
библиотеку,
можешь пользоваться,
сказал он
Илюше при
первом знакомстве.
Только без
выноса.
Приходи,
сиди, читай,
сколько
хочешь. У
меня много
хороших пластинок,
классическая
музыка.
Крути.
Предложение
показалось
заманчивым.
Когда я буду
дома, можем
слушать
вместе. А когда
я у Аллы
Львовны, моя
комната в
твоём распоряжении.
Ха-ха-ха, твоя
комната!
Скорее уж моя
комната! не
удержалась
Инна от
предъявления
прав на
спорную
жилплощадь.
Моя, твоя
какая
разница? Наша
комната в
вашем
распоряжении.
Неожиданно
оказалось,
что у Илюши с
Инной уже
есть своя
комната
М-да.
о
Главный
герой нашего
повествования
с младых, как
прежде
выражались,
ногтей увлекался
радиотехникой,
был
ра-ди-о-лю-би-тель
такое
официальное
название
придумали для
данного
"хобби" (хотя,
следует
отметить, такого
слова в те
времена в
обиходе ещё
не было).
Детекторные
приёмники,
усилители высокой
и низкой
частоты,
выпрямители
Гордостью
нашего героя
в те годы
стал
изготовленный
им
радиоприёмник
по схеме
Бориса Николаевича
Хитрова
одна
хитроумная
электронная
лампа, 6Е5С,
выполняла в
Хитровском аппарате
функции
усилителя
высокой
частоты, сеточного
детектора,
усилителя
низкой частоты
и
оптического
индикатора
настройки! Приёмник
работал,
принимал
станции на
длинных и
средних
волнах и даже
экспонировался
на
радиовыставках,
занимая для
своего изготовителя
какие-то
места.
В
одном из
номеров
популярного
столичного
журнала
"Радио"
Илюша прочитал
статью о
конструкторском
коллективе
минского
радиозавода,
разработавшем,
сконструировавшем,
изготовившем
и представившем
на
Всесоюзную
радиовыставку
приёмник
ВЫСШЕГО
класса "Мир".
К описанию экспоната
был присовокуплен
его
фотоснимок.
Мечтая
о таком
аппарате,
юный
радиолюбитель
лишился сна.
Навязчивая
идея, почти
сумасшествие
овладели
ребёнком
Спустя
годы
случайная
встреча
около свердловского
главпочтамта
ясным
августовским
утром,
однако, почти
приблизила
его к давней
мечте.
В
тот самый
день одна
тысяча
девятьсот
пятьдесят
четвёртого,
вернее,
вечером того
же дня,
впервые
войдя с мамой
в
гостеприимный
дом
Эренбургов
(будем, в
угоду Якову
Израилевичу,
писать его
фамилию
через
оборотное "Э",
не идя на
поводу у белорусских
антисемитов),
Илюша застыл
в оцепенении,
лишился дара
речи: на
комоде в гостиной,
между двумя
окнами,
высился,
словно неприступный
бастион
на
комоде стоял
радиоприёмник
высшего
класса с
растянутыми
и полурастянутыми
коротковолновыми
диапазонами,
с
эффективными
АРУ и
шумоподавителем,
с дросселем
сглаживающего
фильтра в
качестве
магнита
громкоговорителя
во всей своей
красе, будто
вышел из
фотоснимка в
давнем журнале
"Радио",
возвышался
радиоприёмник
"Мир".
Замешательство
гостя не
ускользнуло
от цепкого
взгляда
хозяина дома.
Это Инночкин
радиоприёмник,
сообщил
Яков
Израилевич.
Пусть она
будет нам
здорова. "Мир"
и к нему
проигрыватель,
отдельный.
Пока мы
пользуемся
всей семьёй,
но, даст Бог,
всё перейдёт
к Инночке.
Теперь
капкан мог
захлопнуться.
На
столе в
хрустальном
графине
пурпурно наливалось
лучами
заходящего
солнца марочное
вино ("За
будущее
наших детей,
чтоб они были
нам здоровы,
лэхáим!"),
сменяли одна
другую
тарелки с
куриным
бульоном, с
фаршированными
блинчиками, с
домашним
печеньем и с
ароматным
сладким чаем
с клубничным
и вишнёвым
вареньями
(впрочем, нет,
печенье, чай
и варенья
подавались,
разумеется,
не в тарелках)
но для Илюши
в этом доме
существовал
лишь один
предмет
страстного
вожделения на
комоде между
окнами
заманчивым
миражом
возвышался,
парил
радиоприёмник
высшего
класса "Мир".
о
Квартирная
хозяйка тётя
Лиза была
немолодой и
нездоровой
женщиной,
поэтому
обязанности
водоноса
Илюша
безоговорочно
взвалил на
себя. Тётя
Лиза
повозражала
("Мне неудобно,
твоя мама мне
деньги
плотит
"), но, в
конце концов,
смилостивилась
и
согласилась.
Дома
тёти Лизы и
Печатниковых
стояли по нечётной
стороне
улицы Гоголя
и были угловыми,
разделяла их
улица
Энгельса. А
если от дома
Печатниковых
пройти один
квартал по Энгельса
в сторону
речки, то там
и будет дом, в
котором жили
Эренбурги.
Всё рядом,
все по
соседству.
Водоразборная
колонка
находилась
около дома
Печатниковых.
Уже
выпал снег и
подмораживало.
Илюша поленился
надеть
пальто и
шапку и как
был в одной
лёгкой
рубашечке
выскочил,
схватив
ведро, на
улицу.
Оденься,
ненормальный!
прокричала
вслед тётя
Лиза, но
дверь за
квартирантом
уже захлопнулась.
Мороз
вцепился в
уши и щёки и
приятно,
после жаркой
комнаты (тётя
Лиза дров не
жалела, она
сама любила
тепло, да и
ноги у неё на
холоде
болели),
пощипывал.
Из
калитки
Печатниковского
дома вышли Исай
и Гриша.
Привет,
труженик!
протянул
Талаловский
руку. Как
дела на
амурном
фронте?
Илюша
пожал
плечами.
Не забудь
позвать на
свадьбу,
оскалился Исай.
Сколько они
тебе приданного
за Файку
обещали?
спросил
Гриша. Мне назвали
пятьдесят
тысяч и
очередь за
машиной.
Надеюсь,
тарифы не
упали?
Невесты на
рынке не
обесценились?
Почему мне
ничего не
предлагали?
притворно
возмутился
Исай.
Ты ниже её
ростом,
объяснил
Григорий.
Яша тоже ниже
Софьи
Ефимовны.
Это
произошло со
временем. С
годами Софья Ефимовна
взошла, как
тесто на
дрожжах, а
Яша усох,
только горб
на спине
вырос. Это
его жизнь так
скрючила.
Раньше было
иначе. Мои
предки
помнят их
молодыми.
Софья
Ефимовна была
тощая, как
Файка, а
бравый Яша
работал
начальником
поезда, ходил
в фуражке, и
его любили проводницы,
а он крутил с
ними романы.
Илюша
начинал
чувствовать,
как рубашка
примерзает к
спине и
немеют
пальцы.
Они по правде
очень
богатые,
продолжал Григорий.
Говорят,
когда
началась
война, Яша
выводил поезд
из города.
Там уже были
немцы. В
поезде
вывозили
какие-то
ценности. Их
то ли обстреляли,
то ли
разбомбили с
воздуха.
Короче, пришлось
выбираться.
Яша дождался,
когда поезд
опустеет,
прошёлся по
вагонам и набил
карманы,
сумки,
чемоданы
короче,
прибарахлился,
сколько
сумел унести.
Ну, не тряпками,
конечно, а
всякими
камушками
В
общем, брал
только то,
что стоило
брать, он в
этом понимает.
Так что Файка
и вправду не
бесприданница.
Стало
совсем
холодно.
Я пришёл к
ним, а Софья
Ефимовна мне
говорит: "Мы, говорит,
Фаиночке на
книжку
пятьдесят
тысяч
положили. И,
даст Бог,
скоро
очередь на машину
подойдёт". Я
ей: "Машина
мне, Софья
Ефимовна, ни
к чему, я
водить не
умею, да и
хлопот с ней,
с машиной, не
оберёшься, ремонты,
запчасти
всякие. Не
нужна мне
машина. А вот
деньги
Я,
пожалуй,
соглашусь на
половину.
Двадцати
пяти тысяч
вполне
хватит". "Я
вас, Гриша,
говорит,
плохо
понимаю". "И
понимать,
говорю,
нечего, Софья
Ефимовна.
Двадцать
пять тысяч и
без Файки. Вы
её
оставляете
себе, а мне
выплачиваете
двадцать
пять тысяч".
"Вы грубиян,
Гриша. Как у
вас язык
повернулся
такое мне,
матери,
сказать?" С
тех пор меня
перестали
угощать
обедами и
вообще
больше к себе
не
приглашают. А
я гордый, без
приглашения
не хожу.
Исай
смеялся, а
Григорий
оставался
невозмутимым.
Он, в отличие
от Исая,
шутил и
смешил, сохраняя
серьёзное
выражение
лица и
грустинку в
глазах.
Илюше
было не до
смеха, он
окончательно
продрог и
промёрз.
Друзья
попрощались,
а Илюша
подставил
ведро под
колонку и всем
телом
навалился на
рычаг.
Брызнула струя.
Руки совсем
окоченели.
о
Ночью
подошла тётя
Лиза,
приложила
ладонь ко
лбу.
Да ты никак
горишь весь!
Болела
голова,
ломило всё
тело,
одолевал кашель,
трудно было
дышать.
Утром
явилась Инна,
измерила
температуру
("Ты сошёл с
ума!"),
заставила
надеть на
себя всё, что
можно было
надеть, и
повела к себе.
Родители
меня одну,
без тебя, в
дом не впустят.
Абрам
на время
переселился
к Алле, а
Илюша стал
болеть у
Эренбургов.
Вызвали
врача, поили
лекарствами,
молоком с
мёдом, чаем с
малиновым
вареньем,
вкусно
кормили.
По
вечерам
гость и
хозяин
удобно
усаживались
перед
"Миром",
прозрачные
линеечки шкалы
наполнялись
светом,
наливался
сочной зеленью
оптический
индикатор
настройки (та
самая электронная
лампа 6Е5С).
Яков
Израилевич
медленно
перемещал
движок вдоль
линеечки,
тёмный сектор
индикатора
то сходился,
то дрожал в такт
с
замираниями.
Наконец,
искомая
станция
вливала в
комнату
стройное
оркестровое вступление,
в котором
доминировали
смычковые и
деревянные
духовые
("Вторая
румынская рапсодия
Жоржи
Энеску,"
обронил
мимоходом
Абрам
Яковлевич), и
голос
диктора
сообщал по-еврейски
("на жаргоне",
уточнил
Яков Израилевич),
что "говорит
Бухарест, вы
слушаете
радиопередачу
румынского
радио на еврейском
языке".
Илюшино
сердце
начинало учащённо
биться на
этом родном с
самого, кажется,
рождения
языке, на
"мáмэ-лошн",
разговаривали
между собой
его родители,
да и он сызмальства
научился
читать и
писать на нём,
потому что
письма от
отца с фронта
были всегда
исписаны
справа
налево
древними
буковками,
которые сын
тоже хотел
читать, когда
мама
задерживалась
на работе
почтальонша
тётя Паша
всовывала
фронтовой
треугольничек
за ставню
кухонного
окна.
Что
рассказывала
социалистическая
Румыния
евреям на их
языке?
Оказывается,
был такой
писатель
Шолом-Алейхем.
А в румынском
городе Яссы
играл еврейский
театр, и на
его сцене
ставились
спектакли по
произведениям
другого
еврейского писателя,
Гольдфадена.
Пройдёт
совсем немного
времени,
институтские
комсомольские
вожаки
припомнят
Илюше эти
вечерние бдения
в доме
"старого
сиониста"
Якова Израúловича,
совместное
тайное
прослушивание
"зарубежных
голосов", и
исключат они
его из своего
коммунистического
союза молодёжи,
веря в то, что
выдают
"махровому
националисту
и антисоветчику"
пожизненный
"волчий
билет". Справедливости
ради следует
отметить, что
и сам юный
герой нашего
повествования
думал тогда
так же. Но
неисповедимы
пути Господни,
и "волчий
билет"
окажется
впоследствии
путёвкой в
жизнь.
о
А
однажды
Илюша
уже
выздоровел и
вернулся на
свою койку в
комнате тёти
Лизы, но по
вечерам нет-нет,
да и
захаживал в
гостеприимный
дом Эренбургов.
Инну он чаще
всего дома не
заставал, она
под разными
предлогами
("Пошла в
техникум на консультацию",
"У нас
вечерние
занятия", "Мы
договорились
с подругой
вместе
готовить
уроки" и т.п.),
убегала
целоваться к
Юре Лобанову
(о чём потом в
подробностях,
словно хвастаясь
перед ним, а,
может, и
вправду хвастаясь,
рассказывала
Илюше), но
родителям об
этой стороне
её жизни
знать не
полагалось.
Инночки нет,
можешь
посидеть
подождать её.
Он
сидел.
Инночку,
правда, он не
ждал. Оба
прекрасно понимали
друг друга, у
каждого был в
жизни свой
интерес.
Илюшу
в доме
Эренбургов
привлекала
поистине
сказочная библиотека
Абрама
Яковлевича.
Домочадцы
расползались
по своим
комнатам
("Захлопнешь
дверь,"
наказывали
ему), и Илюша
оставался в
гостиной
один.
Бывало
и так, что
почитать не
удавалось: в
урочный час
Яков
Израилевич
придвигал к
радиоприёмнику
своё кресло,
и гость с
хозяином
усаживались
послушать, "как
там живут
наши
румынские
евреи".
В
тот раз,
обозначенный
загадочным
вступлением
"А однажды
",
Илюша
неожиданно
для самого
себя поднял
руку и
протянул её к
ручке настройки
приёмника,
чего до того
случая никогда
не делал
настраивался
на станцию
всегда сам
старый
Эренбург. А
тут поднял,
протянул
руку,
коснулся
ручки
настройки,
чуть-чуть,
совсем
легонько
коснулся её,
и вместо разборчивой
еврейской
речи в
комнату
спокойно,
словно к себе
домой, вошёл
незнакомый
язык, и Яков
Израилевич
на несколько
мгновений
замер, после
чего, охнув,
схватил юного
подельника
за локоть.
Ду
hэрст?* хрипло
спросил
старик.
* Ду hэрст? (идиш)
Ты слышишь?
Что?
не понял
вопроса
Илюша и
огляделся, прислушался.
Ду
hэрст, а? Ду
hэрст? Мэ рэдт
Лошн-Койдэш!*
И шёпотом, еле
шевеля
дрожащими
губами: Дос
из фун Ерушалаим!**
* Ду hэрст,
а? Ду hэрст? Мэ
рэдт
Лошн-Койдэш! (идиш)
Ты слышишь,а?
Ты слышиш?
Говорят на
Святом Языке
(так на языке
идиш
называют
иврит И.В.)!
** Дос из
фун
Ерушалаим! (идиш)
Это из
Иерусалима!
Пальцы
Якова
Израилевича
нервно
подёргивались.
С
трудом
проглотив
комок,
застрявший в
горле и
мешавший ему
говорить,
старый
ешúвэ-бóхер
начал слово
за словом,
фразу за
фразой
переводить
на русский язык
загадочный
текст,
донесённый
на уральскую
землю из
незнакомой,
но, тем не
менее, родной
дальней дали.
Илюша
вслушивался
не столько в
смысл произнесённых
и
переведённых
слов, сколько
в звучание
возрождённого
древнего
языка предков.
Диктор
объявил
музыкальный
номер,
прозвучали
имена
Феликс Мендельсон
и Яша Хейфец,
и заиграл
оркестр,
зазвучала
скрипка.
Вошедший
Абрам
Яковлевич
остановился
в проёме
двери.
Скрипичный
концерт
Мендельсона.
Исполняет
он
прислушался,
кажется
Да,
точно, это Яша
Хейфец. У
него вот в
этом месте,
он прикрыл
глаза, запрокинул
голову и,
рукой
изображая
игру на скрипке,
запел,
протяжно
грассируя:
ррра-рррáá-ррра,
ррра-
рррáá-ррра,
ррра-рррá-ррра-ррра-ррра-рррá
как будто
ёкает и
замирает сердце.
Я это
чувствую,
со-чувствую
А йидл мит а
фидл*, нервно
засмеялся
Яков Израилевич
и потёр
глаза.
Геéндикт!** И
выключил
свой великий
приёмник.
* А йидл
мит а фидл (идиш)
Еврейчик со
скрипочкой.
**
Геéндикт! (идиш)
Закончили!
Был
зимний вечер,
падал снег.
Илюша
в приподнятом
настроении
направлялся
домой. Путь
был слишком
короткий, а
хотелось
бродить,
нечленораздельно
бормоча про
себя не слова,
которых он не
знал, а
музыку слов,
только что
открывшуюся
ему.
В
бормотание
это почему-то
исподволь
вплёлся
другой язык,
не такой
древний, но
тоже
еврейский,
иногда пренебрежительно
называемый
жаргоном.
Стали сами
собой
складываться
строчки:
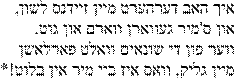
*
Подстрочный
перевод с
идиша:
Я
услышал язык
моих предков,
И
у меня
потеплело на
душе.
Какие
враги могут
погасить
счастье,
которое
бурлит в моей
крови!
Илюша
кружил по
покрытым
только что
выпавшим
снегом
улицам и
бормотал
строчки на языке,
на котором до
этого вечера
никогда не сочинял
ни стихов, ни
прозы, лишь
пользовался
им, чтобы
перекинуться
с мамой или с
отцом
несколькими
словами на
ходу,
скороговоркой.
А выбормотав,
повторив и
запомнив
четверостишье,
так
неудержимо
захотелось
ему
вернуться,
войти в дом, в
тепло его и
радушие,
почитать
стихи Якову
Израилевичу,
увидеть его
одобрительный
кивок,
понимая, что
нынешним
вечером
старик тоже
переживает
случившееся
голос
оттуда, и
понимание
языка, и то,
что вообще
довелось,
посчастливилось
дожить до
такого события,
оно
произошло,
случилось,
да-да-да
Илюше
хотелось
возвратиться,
но он не вернулся,
не пошёл
обратно.
Вернее, он
пошёл, и
дошёл до
ворот, и
ступил во
двор, и
пересёк его,
и прошёл три
ступеньки по
склону вниз,
к речке, и коснулся
рукой двери,
и
но нет, в
дверь он не постучал,
только
постоял в
задумчивости
у запертого
входа,
повернулся и
медленно
зашагал
прочь, то про
себя, то вслух
повторяя:
Их
hоб дэрhэ'рт майн
зэйднс лошн,
Ун
с'мир гэвóрн
варм ун гут.
Вэр
фун ди сóним
волт фарлóшн
Майн
глик, вос из
бай мир ин
блут!
о
Соня, Абрам,
идите сюда!
позвал Яков
Израилевич.
Инны дома не
было, она, как
обычно,
готовилась
где-то с
кем-то к
какому-то
очередному
учебному мероприятию.
Соня, Абрам,
идите сюда!
Вы только
послушайте!
Старый
Эренбург
держал в руке
листок со стихотворением.
Вы только
послушайте,
чтó принёс
этот мáмзер*!
*
мамзер (идиш)
буквально
незаконнорожденный
ребёнок, выблядок;
употребляется
и как
ругательно-оскорбительное,
и как
шутливо-поощрительное
прозвище в
зависимости
от контекста.
Он
отодвинул
листок от
глаз,
прищурился и
торжественно,
чуть
присвистывая
на шипящих
звуках, очень
выразительно
прочитал
четверостишье.
Илюшу
тронули его
искренность,
трепет в голосе
и блеск
повлажневших
глаз. Яков
Израилевич
обнял юношу и
прижал к
себе.
Спасибо,
растроганно
сказал он. А
данк!* Рав
тодóт!**
* А данк! (идиш)
Спасибо!
** Рав
тодот! (иврит)
Большое
спасибо!
Потом
старый
Эренбург
вышел из
гостиной и, вернувшись,
поставил на
стол бутылку
армянского
коньяка.
Соня, что у
тебя сегодня
на ужин?
И
пропел:
Лóмир áлэ
инэйнэм-инэйнэм
/ Нэмэн абú-исэлэ
вайн!*
* Ломир
алэ
инэйнэм-инэйнэм
/ Нэмэн
абисэлэ вайн!
(идиш)
строки
популярной
еврейской
застольной песни:
"Давайте все
вместе-вместе
/ Примем немножко
вина!"
Впервые
в жизни Илюша
пил коньяк. У
него кружилась
голова, он
блаженно
улыбался и
чувствовал
себя большим
поэтом и
выразителем
чаяний
униженного
еврейского
народа. Это
ли не
счастье!
о
Счастьем
было и другое
стихотворение,
написанное
им в то же
время.
В
кинохронике,
посвящённой
международному
гроссмейстеру
Михаилу
Ботвиннику,
показали
шахматный
поединок
между
советским
чемпионом
мира и
чемпионом
Соединённых
Штатов
Америки
Самуилом
Решевским.
Два
великих
еврея сидели
в глубокой
задумчивости
по разные
стороны
клетчатой
доски. Рядом
с шахматной
доской на
подставочках
стояли
флажки: серпасто-молоткастый
советский
со стороны
Ботвинника
и напротив
звёздно-полосатый
американский.
В
душе
молодого
человека
закипало
возмущение:
"Михаил
Моисеевич
Ботвинник и
Самуил Решевский
русский и
американец!
Защитники чести
и
достоинства
двух великих
держав!"
Фильм,
шедший вслед
за журналом,
смотреть не
хотелось.
Илюша
поднялся и,
протискиваясь
между
спинками
предыдущего
ряда сидений
и
зрительскими
коленями,
устремился к
выходу.
Ты чо?
спросил,
дохнув
сивухой,
парень.
Тошнит,
объяснил Илюша.
Перепил
с
пониманием и
сочувствием
произнёс
парень. Вот и
я тоже
Погоди, я с
тобой. Он
поднялся и
тронул Илюшу
за плечо.
Скинемся?
На
них зашикали.
Да вы чо!
возмутился
парень,
пробираясь
вслед за
Илюшей. Кто
третий, айда
с нами.
Поднялся
ещё один, по
виду,
насколько
можно было
различить в
темноте,
немолодой
человек с
усиками.
На
вечерней
улице было
многолюдно и
слякотно.
Накрапывал
мелкий
дождик,
перемешанный
со снегом.
Ну, давай, у
кого чо есь,
протянул
руку невысокий
крепыш с широким
рябым лицом и
подбитым
глазом. Я сбегаю
в гастроном.
У меня
У меня
нет денег,
виновато
сознался Илюша.
Чо ж ты
воду-то
мутишь,
нерусский?
возмутился
рябой. Усатый
стоял молча.
За чужой счёт
захотел, да?
Ничего я не
хотел,
попытался
отвязаться
от него
Илюша. Я
только хотел
выйти из
зала.
А чего нас
позвал?
подал голос
усатый. Мы кино
пришли
смотреть, а
ты "кто
третий, кто
третий"!
Накостыляем
ему, чтобы к
русским
людя'м не приставал,
предложил
рябой.
Да ну его,
пусть идёт,
миролюбиво
сказал усатый.
Я тоже
нерусский. Из
Башкирии.
Да пошли вы
нá хер,
рассвирепел
представитель
коренной
нации.
Пропала
Расея, пропала
Погибла
кормилица
Русь,
насмешливо,
почти
автоматически
продолжил
Илюша.
Во-во, я и
говорю.
Парень
сплюнул
сквозь зубы и
пошёл прочь.
Отойдя на
несколько
шагов, он
запел
высоким и
сильным
приблатнённым
голосом:
"Вы-ы'ткался
над озером /
А-áлый свет
зари
"
Красиво
рисует,
оценил
башкирин.
Выразительно.
Бывай,
помахал он
рукой.
"Рисует,
подумал
Илюша.
Пожалуй
"
У
Илюши и в
самом деле не
было денег
даже на трамвайный
билет.
Вышагивая
по
оттепельной
слякоти и
отирая с лица
дождевые
капли,
перемешанные
со снежной
кашицей, он
возвращался
мыслью к сюжету
кинохроники.
Они сидят
один против
другого,
бормотал он.
Они сидят
один против
другого,
сидят часами
за одним
столом
Он
повторил
несколько
раз
начальные
строки и
досочинил:
Они сидят
один против
другого, /
сидят часами
за одним
столом
/ Один
не знает
русского ни
слова
/
Другой
Другой
с
английским
вовсе не
знаком.
Вырисовывалось
первое
четверостишье:
Они
сидят один
против
другого,
Сидят
часами за
одним столом.
Один
не знает
русского ни
слова,
Другой
с английским
вовсе не
знаком.
Автор
понимал,
пожалуй, что
строка
"Другой с
английским
вовсе не знаком"
относительно
доктора
технических
наук Михаила
Моисеевича
Ботвинника
передержка,
вернее было
бы сказать
"Другой с английским,
кажется,
знаком", но
подобное
утверждение
противоречило
бы
авторскому
замыслу: следующая
строфа
должна
начинаться
"Но существует,
существует
третий / Язык
та-тá, та-тá-та-тá-та-тá".
При таком
повороте
вполне правомерно
задать
совсем не
риторический
вопрос,
причём,
рифмующийся
с
приведённой
строкой: "Так
почему ж они
молчали,
встретясь? /
Та-тá-та-тá,
та-тá-та-тá-та-тá".
Третья
строфа
сочинилась
сразу,
целиком:
Их
разделяет
шахматное
поле,
Их
различают
разных стран
гербы,
И
весь их ум,
способности
и воля
Чужих
народов
гордость и
рабы.
Позднее
это
четверостишье
претерпело небольшое
изменение и
разошлось
среди евреев
института и
города в
несколько
иной редакции.
Случилось
это так. Яков
Израилевич,
конечно,
радостно
прокричал:
Соня, Абрам,
идите сюда!
Вы только
послушайте,
чтó на этот
раз нам
принёс этот
мáмзер!
Инны,
конечно, дома
не было, она
опять где-то
с кем-то к чему
-то
готовилась.
"Они сидят
один против
другого, /
Сидят часами
за одним
столом,"
торжественно
читал гордый
Эренбург,
прищуренными
глазами вглядываясь
в
отодвинутый
от лица лист
с начисто
переписанным
стихотворением.
"Их
разделяет
шахматное
поле, / Их
различают
разных стран
гербы,"
декламировал
Яков Израилевич.
Почему "их
различают"?
перебил отца
Абрам Яковлевич.
Различать
гербы разных
стран можем
мы, люди,
наблюдатели.
А
шахматистов
разных стран
гербы не
различают, а
отличают.
Ты, Абрам,
буквоед! Ты
юрист, а не
поэт, желчно,
как
обвинение в
неприглядном
поступке, бросил
сыну
Эренбург, не
заметив, что
невольно сам
стал
рифмовать.
Мальчик
стихи сочинил,
а не статью
закона. Я
возьму,
сказал он,
складывая
листок
вчетверо и
опуская в карман.
На память.
Покажу нашим
áлтэрам.
Тем не менее,
по-русски
правильно
"отличают",
не сдавался
кандидат
юридических
наук.
Много у вас
алтеров?
поинтересовался
Илюша.
Это как
считать. В
сравнении с
гóрнит*
что-то, почти
всегда
собираем а
мúньен**. А в
сравнении с
девятьсот
тринадцатым
годом наш
жалкий
мúньен**
форменный
гóрнит*. До
революции
было
несколько
синагог, а грóйсэ
ун а рáйхэ
кеhúлэ***. Было
да бабьём поросло,
старик
горько вздохнул
и обречённо
махнул рукой.
"Бабьём
поросло,"****
усмехнулся
про себя Илюша.
Хорошо,
однако.
* горнит (идиш)
ничто.
** а миньен (идиш)
группа
мужчин,
числом не
менее десяти,
собирающихся
для
исполнения
еврейских
религиозных
ритуалов.
*** а гройсэ
ун а райхэ кэhилэ (идиш)
большая и
богатая
община.
**** "Было,
да
бабьём поросло"
перефразированная
русская пословица
"было, да быльём поросло".
По законам
иудаизма
женщины не могут
участвовать
в
отправлении
религиозных
ритуалов.
о
Следует
отметить, что
автор учёл
справедливое
замечание
одного из
первых
читателей
(слушателей)
своего
стихотворения
и в окончательную
его редакцию
внёс
предложенную
младшим
Эренбургом
(юристом)
поправку. Как
известно,
наша критика
вообще
обязана быть
конструктивной
и
доброжелательной.
Таковой она и
оказалась.
о
У меня завтра
банный день,
ответил
Илюша Якову
Израилевичу
на
приглашение.
Уважительная
причина,
одобрил
старый Эренбург.
Чистота
залог
здоровья.
Хотя
старик
покачал
головой,
чтоб мои
враги так жили,
какая у них
там чистота.
Ты в какой
бане моешься?
Раньше ходил
на Куйбышева,
пока жил у
тёти Лизы, а
теперь из
ВТУЗгородка
ближе на Комсомольскую.
Илюша
получил
место в
общежитии и
распрощался
с радушной и
заботливой
хозяйкой.
Париться
любишь?
Не очень.
Иногда
захожу на
пару минут.
Ну, если не
очень,
приходи
завтра,
вместе помоемся.
Тут напротив,
в Главэнерго,
есть душ.
Бесплатный.
Для
сотрудников,
но меня
пускают.
Приходи.
Ага.
Главэнерго
находилось
наискосок от
Эренбургов,
глухая
кирпичная
стена
Управления
выходила на
Горького,
сбоку
невысокое крыльцо
с перилами и
маленькая,
почти незаметная
дверца.
Яков
Израилевич
нажал на
кнопку, в
двери загудело,
замок
щёлкнул, и
Яков
Израилевич
потянул на себя
дверную
ручку.
Шóлем
алéйхем*,
поздоровался
Эренбург в темноту.
Неведомая
рука
засветила
под высоким
потолком
тусклую
лампочку.
Алéйхем
шóлем,
ответил
тихий голос,
и Илюша в
мутноватой
полутьме
разглядел
крохотного
человечка в
спецодежде.
Кумт арáйн**.
Шóлем
алéйхем,
повторил
приветствие
Яков
Израилевич.
Их бин мит
майн кóрэв
гекýмен***.
"Ха-ха,
"майн корэв",
отметил про
себя Илюша
Уже и
сосватали, и
поженили,
теперь
прохожу по
разряду родственников."
Кумт арáйн,
кумт арáйн,
повторил
приглашение
человечек.
С'из шойн
шпэт, кéйнер
из нитó, их
бин алéйн
****
* Шолем
алэйхем,
алэйхем
шолем (идиш)
приветствие.
** Кумт
арайн (идиш)
Входите.
*** Их бин
мит майн
корэв
гекумен. (идиш)
Я пришёл с
моим
родственником.
**** С'из
шойн шпэт,
кейнер из
нито, их бин
алейн
(идиш)
Уже поздно,
никого нет, я
один
В
кромешной
тьме прошли
по довольно
длинному
коридору,
Илюша
нетвёрдо
ставил ноги,
ощупывая пол.
Яков
Израилевич
шагал уверенно,
он ориентировался
тут, как в
собственной
квартире.
Осторожно,
ступенечка
Теперь
направо и направо
и налево,
подавал
предупредительный
голос
Эренбург.
Он
толкнул
дверь перед
собой, она со
скрипом
отворилась, и
купальщики
вошли в
душевую. Пахло
сыростью и затхлостью.
В
крохотной
комнатке так
же тускло
светила
покрытая
пылью
лампочка, в
такой же
полумгле
Илюша увидел
на стене под
низким потолком
одинокую
душевую
лейку. У
противоположной
стены стояла
облезлая,
когда-то
окрашенная в
голубой цвет
скамейка.
Раздевайся,
указал на
скамейку
Яков Израилевич.
Потрём друг
другу спину.
Смесителя
в душе не
было,
температура
воды постоянно
менялась от
нестерпимо
горячей до
нестерпимо
холодной,
поэтому
приходилось
постоянно
выскакивать
из-под жидковатой
струйки,
крутить-вертеть
краны,
регулировать,
но это слабо
помогало.
Намыливались,
становились
под лейку,
кое-как
смывали пену.
Яков
Израилевич
уронил мочалку
у самых
Илюшиных ног.
Илюша
поспешил
наклониться,
наклонился и
Яков
Израилевич, и
купальщики
столкнулись
лбами.
Чтó,
по-твоему, я
такой áлтэр
кáкер*, что
сам мочалку
поднять не
могу?
почему-то зло
спросил
Эренбург и
опять уронил
мочалку к Илюшиным
ногам.
* алтэр
какер (идиш)
старый
засранец
Старик
наклонился,
долго шарил
по полу, будто
не мог в полумраке
ни
разглядеть,
ни нащупать
потерю, а сам
поднял лицо
кверху и
стал
откровенно
разглядывать
"Да
ведь он меня
на
кошерность
проверяет! осенило
Илюшу. Он,
паразит,
специально
повёл меня в
этот сраный
душ! И роняет
мочалку! Он
меня
тестирует на
соответствие
ГОСТу!
Родственничек
"
Захотелось
побыстрее
одеться и
убежать.
о
Абрам
Яковлевич
женился и
переехал к
Алле Львовне.
Всю
библиотеку с
фонотекой он
перевёз в
институт
микробиологии.
Тащиться из
ВТУЗгородка
к Эренбургам,
когда
главный интерес
библиотека
и пластинки
сменили
адрес, стало
бессмысленно.
Инне Илюша
изредка позванивал,
но редко
заставал её
дома. Отвечал
Яков
Израилевич,
приглашал
прийти послушать
передачу из
Бухареста, но
былая заинтересованность
в Илюшиных
визитах из
его голоса
исчезла.
Накануне
очередной
октябрьской
годовщины
институтские
незыблемые,
казалось, устои
были
потрясены:
студент
ядерного
факультета
Артур
Немелков
выступил на
отчётно-перевыборной
конференции
и зачитал
решение
факультетского
бюро ВЛКСМ
изменить государственный
строй СССР,
для чего а)
ввести в
стране
многопартийную
систему, б)
назначить
свободные
выборы
и
далее по
алфавиту.
Словом,
институт из
академического
учебного
заведения
превратился
в
чёрт знает
что.
Илюша
делегатом
конференции
не был, но так
случилось,
что в актовом
зале во время
крамольной
речи он
присутствовал
как член
редколлегии
стенгазеты.
Мятежному
оратору он
искренне, от
всей своей
диссидентской
души
аплодировал
(понятие и
слово "диссиденты"
тогда ещё не
бытовали, они
появились лет
через пять, в
начале
шестидесятых).
Хотелось
срочно с
кем-нибудь
поделиться. После
шумного
завершения
первого дня
конференции
Илюша
спустился на
первый этаж,
к "сапогу"
монументального
Серго
Орджоникидзе.
По вестибюлю
ходили
какие-то
непохожие на
студентов
люди, стояли
группками,
совещались,
переглядывались,
переходили
из одной
группки в
другую. Илюша
занял
очередь у
кабинки телефона-автомата.
Инка, что у
нас делается!
почему-то
зашептал он в
трубку,
оглядываясь
сквозь
стеклянную
дверь по
сторонам.
Слушай!
Папа сидит у
приёмника,
голова в
ящике, говорит,
передавали
Да ты не
перебивай
меня, ты
слушай!
Стараясь
не обращать
внимания на
всё разрастающуюся
нетерпеливую
очередь,
нервные
постукивания
монетами по
стеклу
кабинки,
выкрики и
даже ругань,
Илюша
рассказал
сначала Инне,
а потом повторил
и Якову
Израилевичу
последние
институтские
сногсшибательные
новости.
Приходи,
коротко
приказал
Эренбург.
Поздно
замялся
Илюша.
Так завтра. Я
тебя жду.
Ни
завтра, ни
послезавтра,
ни даже
послепослезавтра
Илюша у
Эренбургов
не появился:
конференция
продолжалась
четыре
полных дня с утра
до вечера.
В
пятницу вся
семья, вместе
с Абрамом
Яковлевичем
и беременной
Аллой
Львовной,
была в сборе.
Илюша
с жаром
пересказывал
подробности,
многие
выступления
он помнил
почти
дословно и
живо
передавал их притихшим
слушателям,
будто сам
стоял на трибуне
перед
переполненным
залом.
Сели
за стол.
В газетах
пишут о
каком-то
"культе
личности",
сказал Яков
Израилевич.
"Культ
личности",
"культ
личности"
Чей культ,
какой
личности? А
грóйсэр сод!*
Говорят,
Хрущёв
назвал
Сталина
убийцей, людоедом
и
антисемитом,
пережёвывая
котлету,
отозвался
Абрам
Яковлевич.
Éнэ мэлýхэ!**
проворчал
Яков
Израилевич.
* а
гройсэр сод (идиш)
великая
тайна
** Енэ
мэлухэ (идиш)
Тá ещё
власть!
А язык
всё-таки
стоит
попридержать,
неясно кому
посоветовал
Абрам
Яковлевич.
Не
попридержать,
а совсем
отрезать.
Инна
с усмешкой
взглянула на
отца.
И отдать
собакам,
довела она
мысль до логического
завершения.
Ты всегда умнее
всех, зло
осёк её отец,
а Абрам
добавил:
Твой язык
давно
следовало
укоротить.
Я и с
укороченным
проживу.
Попробуй-ка
ты, адвокат,
парировала
Инна.
Прекратите
собачиться!
хлопнул
ладонью по
столу Яков
Израилевич.
Звякнула
посуда.
Все
разом
умолкли, а
затем стали
прощаться.
о
С
Алексеем
Добры'денем
Илюша
встретился всего
раз в жизни.
Выше
среднего
роста, черноволосый,
за стёклами
очков
суровые,
начисто
лишённые
чувства
юмора глаза
бывают такие.
Крупный и в
то же время
тонкий, даже
утончённый
нос. Плотно
сжатые губы,
не способные
улыбаться, не
приспособленные.
Говорили,
что
Добрыдень
побывал в
плену и о,
чудо! спасся,
выжил. Плен
был
несмываемым клеймом,
хуже,
пожалуй, чем
фамилия
Коган, Рабинович
или Шапиро.
Фамилия что!
фамилию сменить
можно, а плен
надо всю
жизнь проявлять
ретивое
рвение, чтобы
отмыться.
И
Алексей
Добрыдень
старался.
Илюше рассказали,
что в
семьдесят
шестом, когда
Добрыдень
докарабкался
уже до
секретарства
то ли в
райкоме, то
ли в горкоме,
а может
оказаться, что
и в самóм
областном
комитете
партии (Илюша
в те годы уже
давным-давно
процветал на
своей
исторической
родине, в
Стране
Израиля), собрал
он деканов
всех
институтов
Свердловска
на
инструктаж,
то есть
разъяснял
несмышлёным
доцентам и
профессорам
линию партии
в сфере
высшего
образования.
Сказал сей
партийный
муж, между
прочим, вот
что:
Следует
тщательнее
отбирать
кандидатов в
аспирантуру.
Лица таких
национальностей,
у которых
имеются
национальные
государства,
в
аспирантуры
приниматься
не должны.
Вот
как! Кто же
они, эти
"лица"?
Сенегальцы?
Или, быть может,
представители
ирландской
нации? Или
жители
острова
Пасхи?
Ледорубы
Гренландии?
Папуасы
Новой Гвинеи?
Да
ведь и ежу
понятно, что
евреи!
Создали их соплеменники
свой Израиль,
объявили
еврейское
государство.
Еврейское
Государство!
Какая тут
может быть
аспирантура
для еврея в
Союзе советских
социалистических
республик?
Не-ет уж, фигушки!
Как бы не так!
Держите
карман шире!
Такой
он
принципиальный,
Алексей
Добрыдень,
русский по
паспорту,
коммунист.
Нет, по паспорту-то
скорее
украинец. Да
не суть важно,
как
говорится.
Главное, что
он свой,
славянин,
лицо
коренной
национальности,
пользующееся
доверием.
Встретился
с ним Илюша в
парткоме
института,
явившись
туда по
вызову.
Подошёл
к двери,
постучал.
Да!
прозвучало
изнутри
коротко,
начальственно.
Открыл,
вошёл. Сидят
двое: один по
виду то ли Коган,
то ли
Рабинович, то
ли Шапиро. Ну,
второй-то
вполне может
быть хоть
Ивановым,
хоть Петровым,
хоть
Сидоровым.
Или
Иваненко, Петренко,
Сидоренко. А вот
то, что
вылитый
Коган-Рабинович-Шапиро
может
оказаться
Добрыденем,
Илюша сам ни
в жисть не
додумался бы.
Вышло,
однако, что
из этих двоих
именно Коган-Рабинович-Шапиро
и есть
Алексей
Добрыдень. А
второй,
Иванов-Петров-Сидоров-Иваненко-Петренко-Сидоренко,
тот вообще
никак не
представился.
Сидели
оба не за
столами, как
принято в
парткоме, а
на стульях у
стены. Над
ними с портрета
добрыми
глазами
улыбался
Владимир Ильич
Ульянов
(Ленин) из
Бланков,
между прочим,
по женской,
по
материнской
линии, так
что по
Галахе* всё у
вождя
мирового
пролетариата
о-кеу.
* Галаха
свод
еврейских
религиозных
законов и
правил.
Садитесь,
предложил
тот, который
назвался
Алексеем
Добрыденем,
секретарём
факультетского
бюро ВЛКСМ.
Третий,
пустой стул
стоял
напротив тех
двух, на
которых
сидели
Добрыдень с
анонимом.
Илюша
сел спиной
ко входной
двери, лицом
к вызвавшим
его высоким
персонам.
Помолчали
недолго.
Илюша
смотрел на
них, они
смотрели на
него.
Пристреливались.
Да, произнёс,
наконец,
Алексей
Добрыдень и глубоко
задумался.
Хотелось бы
мне узнать,
медленно,
размеренно,
обдумывая
слова,
заговорил,
наконец, он,
хотелось бы
мне узнать
вашу оценку
как вы
относитесь
к
выступлению
Артура
Немелкова.
Как вы
оцениваете
его выступление,
а? Вы ведь
были в зале
во время его,
так сказать,
речи?
Илюша
кивнул.
Ну, и?
Илюша
пожал
плечами:
Было
интересно
послушать
Как вы можете
"интересно
послушать"!
Интерес
бывает
разный.
Бывает
возмущённый
интерес,
когда, как в
партийном
гимне, "кипит
наш разум
возмущённый".
А есть среди
нас и такие
Добрыдень
поцокал языком,
осуждающе
покачал
головой и
взглянул на
соседа. Тот
согласно
кивнул и тоже
покачал
головой. И
один раз
цокнул,
чтобы, очевидно,
поддержать
компанию.
Дальше по
тексту: "И в
смертный бой
идти готов!"
Вот к чему
нас
призывает
партия.
Илюше
вдруг стало
скучно. Он
взглянул в
окно. На
карнизе
сидели два
голубя. Их
воркованья
из-за
герметичности
слышно не
было.
Илюша
перевёл
взгляд на
стену. Там
самый человечный
человек
своими
человечными
глазами
улыбался
голубям. Он
был добрый и
любил живую
природу.
Я не слышу
вашего
ответа,
отвлёк
Добрыдень
Илюшу от
лицезрения
портрета
самого земного
изо всех
прошедших по
земле людей.
Вы готовы
идти в
смертный бой?
В смертный
бой?
переспросил
Илюша.
Ну
это если выразиться
фигурально.
Но иногда
приходится и
в реальных
боях
участвовать.
Аноним
безмолвно
кивнул
словам
Добрыденя и
согласно
цокнул
языком.
Да, я знаю,
сказал Илюша.
Мой отец был
на фронте, он
мне
рассказывал.
Вот видите,
ваш отец
самоотверженно
сражался за
свободу и
независимость
нашей родины,
наставительно
проговорил
Добрыдень, а
вы
сочувствуете
раскольнику
и наймиту.
Вам, видите
ли, интересно
слушать
антисоветскую
демагогию
раскольника
и наймита.
Раскольника
и наймита?
удивился
Илюша.
А вы что
думаете!
Конечно,
раскольника
и наймита. У
нас имеются
сведения
Сосед
Добрыденя
опять кивнул,
дескать да-да,
у нас
имеются, у
нас всё
имеется.
Так
продолжалось
долго. Илюша
перестал вслушиваться
в слова,
только
улавливал
тон беседы.
Кажется,
речь уже шла
не о
конференции.
Ваши так
называемые
стихи ходят
по институту.
И не только
по институту,
их уже знают
в городе. Мы
обратились к
специалисту,
и вот что он
нам ответил
К
специалисту?
удивился
автор "так
называемых
стихов". К
какому специалисту?
К
специалисту
по стихам, к
мастеру
художественного
слова. К
артисту
областной
филармонии
Фёдору Тайцу.
Мы попросили
товарища
Тайца дать
оценку
Илюша
вспомнил
забавный
случай. В
филармонии
праздновали
шестидесятилетний
юбилей
мастера
художественного
слова. На
сцену
поднимались
"деятели
литературы и
искусства"
областного
масштаба,
произносили
речи.
Улыбающийся
Тайц при
бабочке
выглядел
именинником.
Слово предоставили
местному
поэту,
известному острослову
и похабнику.
Он сказал
несколько
прочувствованных
слов, вынул
из
внутреннего
кармана
пиджака
сложенный
вчетверо
лист, долго разворачивал
его,
разглаживал,
вертел и разглядывал
вдоль и
поперёк и,
наконец,
водрузив на
переносицу
очки, зачитал
свой приветственный
адрес:
Старые яйца
уныло висят.
Фёдору
Тайцу уже
шестьдесят.
Фёдор
Андреич,
тоскуй-не
тоскуй
Старость
не радость, а
палец
совсем не то
что надо,
дорогой ты
наш человек
Зал
рукоплескал
и
покатывался
сó смеху.
Охальника
хотели
примерно
наказать, но
он ни в
партии, ни в
Союзе
писателей не
состоял,
поэтому ни
исключать, ни
изгонять его
было
неоткуда.
к артисту
областной
филармонии
Фёдору Тайцу.
Мы попросили
товарища
Тайца дать
оценку
ответил
Добрыдень.
Вот его
официальное
заключение.
Не надо.
Стихи,
действительно
Но тем не менее
вы их
распространяете
и растляете
В
руке
Добрыденя
белел лист с
машинописным
текстом.
Вот,
полюбуйтесь,
протянул он
Илюшины стихи
анониму. Тот
взял лист,
положил на
колено,
разгладил.
Илюша
скользнул
взглядом,
выхватил
вторую
строфу
"Их
разделяет
шахматное
поле,
Их
различают
разных стран
гербы
"
Странно,
в
окончательном
варианте,
который он
пустил "в
люди", было
"Их отличают
разных стран
гербы
", как
посоветовал
Абрам Яковлевич.
Выходит, что
кто-то в
общежитии
кто-то из
своих
кто-то
устраивал в
комнате
"шмон", шарил
ночью по
чужим карманам,
по его,
Илюшиным,
карманам,
шарил и доносил
Стало
противно.
Приписка,
сделанная 3
сентября 2012
года.
Живя в
Израиле, я
столкнулся с
нечасто встречающимся,
но
существующим
именем
Йомтов. Оказалось,
что существует
и фамилия
Йомтов,
причём, среди
сефардских
евреев даже
чаще, чем
среди ашкеназов.
А ведь фраза
"йом тов",
если
перевести с
иврита,
буквально
означает
"добрый день".
Следовательно,
фамилия
Добрыдень
дословный
перевод
вполне
еврейской
старинной фамилии
Йомтов, и к
украинскому
языку она отношения
не имеет.
Языковые
параллели
явление
довольно
распространённое.
Вот, например,
такие
известные
фамилии:
Тейлор,
Шнайдер, Хаят
или Хает,
Портнов или
Портной;
Шустер,
Сандлер,
Шумахер,
Сапожников;
Пеккер и Пекарь;
Меламед,
Лерер и
Учитель
можно перечислять
ещё и ещё.
Придя к
такому
заключению, я
не стал
ничего менять
в ранее
написанной
главе, даже
если я и
заблуждался
в
трактовании
фамилии Алексея
Добрыденя.
Русский ли
он, украинец
или еврей,
какая
разница? Как
говорил
Галич, "
грязь
есть гряз, в
какой ты цвет
её ни крась".
о
Потом
Илюша
влюбился в
Веру, их
познакомила
Инна. Вера
жила с мамой
и дядей,
маминым братом,
на улице
Горького,
наискосок от
дома Эренбургов,
рядом с
Главэнерго, в
душевой
комнатке
которого
Яков Израилевич
однажды
обнаружил
Илюшин
дефект? изъян?
Не станем
ворошить
"дела давно
минувших дней"
Илюшу
после долгих
мытарств и
унижений исключили
из комсомола.
Он
женился на
Вере.
У
них родился
первенец.
Они
продолжали
жить вместе с
мамой и дядей
в
коммунальной
неблагоустроенной
комнате на
улице Горького
рядом с
Главэнерго.
Жилищный
вопрос, по
утверждению
бессмертного
Воланда, с давних
времён
оставался
актуальным и
неразрешённым.
Не исключено,
что и
неразрешимым.
Очень
редко Илюша
встречал
Инну. Она
всегда спешила.
Инна
закончила
энергетический
техникум,
работала,
жила одна с
родителями.
Абрам
занимался
адвокатурой.
У него с
Аллой росли
девочка и
мальчик,
Леночка и
Марик.
Несколько
раз Илюша
встретил на
улице Софью
Ефимовну, она
жаловалась
на старость и
болезни. Якова
Израилевича
Илюша не
видел много
лет.
о
"Золотое
дело"
разразилось
в
Свердловске,
когда Илюша
работал на
приборостроительном
заводе. Это
значит
это
значит в
начале шестидесятых
разразилось
оно. Наверное,
так.
В
областной
партийной
газете (хотя
все газеты
всегда и
везде были,
есть и будут
партийными,
беспартийной
прессы, как
нас правильно
учили, в
природе
вообще не
бывает)
появился
заголовок на
целый
разворот
ЗОЛОТОЕ
ДЕЛО
За
давностью
лет
подробности
этой
нашумевшей
истории,
имевшей для
многих
серьёзные, а
зачастую и
судьбоносные
последствия,
уже в памяти
поистёрлись,
но в общих
чертах дело
было так.
Где-то
на дальних
российских
золотых приисках
(кажется, в
богоданном
Магадане или,
быть может, у
чукчей на
Чукотке)
крали (в
России
всегда крадут)
золото.
Краденный
продукт
переправлялся
в Свердловск
(не
исключено,
что не только
в Свердловск,
но в статье
указывалась
уральская
столица).
Чемоданчики
с
драгоценным
металлом со
специальным
нарочным
доставлялись
по некоему
адресу на
улице
Максима Горького
и из рук в
руки
передавались
благообразному
старичку
Якову
Израилевичу
Еренбургу
(цитата
из газетной
статьи).
Другой
посыльный
(или другие
посыльные) получал(и)
из рук Якова
Израилевича
Еренбурга
перепакованные
и
распределённые
по новым
адресам
пакеты и
передавал(и)
их в другие
надёжные
руки.
Золото,
пройдя,
очевидно,
немало
промежуточных
станций и
рук, уходило
за пределы
Союза
советских
социалистических
республик. Не
нужно быть
слишком
хорошо подкованным
правоведом,
чтобы
догадаться: налицо
преступление
ОСОБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ.
Занимались
его
раскрытием и
расследованием
не
какие-нибудь
местные менты,
а персонал
столичного
управления Комитета
Государственной
Безопасности,
лучшие его следователи
под личным
патронажем
САМОГÓ.
Трудно
сейчас
восстановить,
какúе факты
были
изложены в
газете, а чтó
распространялось
в виде
многочисленных
и
противоречивых
слухов.
Илюше
помнится, что
разветвлённую
сеть "золотоискателей"
и
"золотодобытчиков"
возглавлял
восмидесятидвухлетний
цыган сторож
местного
цирка. Кличка
у него была не
то "Цыган", не
то "Циркач". В
процессе
участвовали
все
свердловские,
а также
многие столичные
адвокаты. Из
достоверных
источников
известно, что
адвокатов
собирали и
инструктировали
в обкоме
партии, т.к.
ходу
судебного
разбирательства
руководство
страны придавало
большое
общественно-политическое
значение и
пристально
наблюдало за
его ходом и
исходом.
Венцом
"Золотого
дела" стали
смертные
приговоры и
двузначные
сроки
заключения.
Одни
участники
событий
оплакивали
свою горькую
участь,
другие
потирали
руки в предвкушении
продвижений
по службе,
новых карьерных
назначений,
премий,
наград и
повышения
окладов
C'est la vie.* И
ещё jedem das seine**.
* C'est la vie (франц)
такова
жизнь.
** "jedem das seine" (нем)
"каждому
своё" так
было
написано на
воротах
концлагеря в
Бухенвальде.
Илюша
пытался
мобилизовать
всё воображение,
ему виделось:
по ночному
(почему
именно по
ночному?)
городу
пробирается
человек,
одетый во всё
чёрное, в
руке он
держит,
прижимая его
к себе, тяжёлый
чемодан,
набитый
золотыми
самородками и
слитками.
Человек
подходит к
дому номер двенадцать
на улице
Горького,
насторожённо
оглядывается
по сторонам
и, медленно и
аккуратно
растворив
скрипучую
калитку, ныряет
во двор. На
цыпочках он
крадётся по
ступеням,
ведущим вниз,
к речке, и,
спустившись
на три
ступеньки, по
левую руку
видит дверь,
о существовании
которой был
предупреждён
заранее.
Человек
останавливается,
озирается,
прислушивается,
тихо-тихо
скребётся и
по-кошачьи
три раза
мяукает.
Ему
отвечает
трёхкратный
собачий лай.
Не спится,
няня? слышит
он из-за
двери первую
часть пароля.
Ни сна, ни
отдыха
измученной
душе,
произносит
пришелец
вторую часть.
Я пришёл к
тебе с
приветом.
Тёмная ночь
окружает,
любимая, нас,
шепчет человек
изнутри. Кто
там улицей
крадётся? Кто
в такую ночь
не спит?
В Казани он
татарин, в
Алма-Ата
казах, в Полтаве
украинец и
осетин в
горах.
Ключ
в замочной
скважине
четырежды
поворачивается,
и согбенный
старец Яков
Израилевич
Еренбург
протягивает
в
образовавшуюся
щель свою
алчную
иссохшую
руку.
Всё, как
условлено?
спрашивает
рука.
Всё, как
условлено!
отвечает
ночной гость и
растворяется
во мгле.
Кхе-кхе,
откашливается
Яков Израилевич
Еренбург и,
ещё ниже
склонясь под
тяжестью
набитого
металлом
чемодана, на
четыре
оборота
ключа
запирает
дверь.
Он
возвращается
в дом
взвешивать и
паковать
золотые
самородки и
слитки для
отправки их
за рубеж,
чтобы
ослабить
родную
страну и усилить
её врагов.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Инну
Илюша
заметил
издали,
разглядел,
узнал, она
шла по улице
Горького, по
его стороне, пересекала
улицу
Энгельса.
Илюша
помахал Инне,
она ответила
коротким
взмахом, и
они стали
сближаться.
Здррравствуй,
звучно
заграссировала
Инна.
Давненько
Даа, живём
рядом, а вот
Они
обменялись
ещё какими-то
обрывочными фразами
и
междометиями.
Не
спросить
нельзя
(притвориться,
что ничего не
знает? весь
город знает,
а он не знает,
ха-ха!), если же
спросить, то
кáк?
Инна, скажи,
папа
сидит?
Его судят?
Нет, по
состоянию
здоровья
папа не в
состоянии
предстать
перед судом.
Его дело
выделено в
отдельное
производство.
В
сознание
штопором
ввинтилась
подленькая
реплика:
"Воровать
мог, а
предстать
перед
справедливым
советским
судом "по
состоянию
здоровья"! Так,
да?" Но сумел
Илюша не
зациклиться
на этой
мимолётной
мысли, не
поддался
минутному настроению
смолчал.
о
. . . . . . . . . . . . . . .
.
о
Заканчивался
1969 год.
Новый
год отмечали
у друзей, в их
новой квартире
на Восточной.
Гастроном
находился
через дорогу.
Туда Илюша и
направился
с
сеткой-авоськой
и зажатыми в
ладони
мятыми
ассигнациями
за спиртным.
Было это 30
декабря.
Абрама
Яковлевича
Илюша узнал
со спины:
высокий
мешковатый
мужчина с
опущенными плечами
и шаркающей
походкой.
Окликнул. Абрам
Яковлевич
придержал
шаг,
оглянулся, обернулся,
узнал, кивнул
молча. Плечи
его опустились
ещё ниже,
смотревшие в
разные стороны
влажные
глаза
печально
поблескивали
в неживом
свете
флуоресцентов.
С Новым
годом,
неуверенно
пролепетал
Илюша, сразу
почувствовав
неуместность
поздравления.
Умер папа,
тихим
голосом
проговорил
Абрам
Яковлевич.
Желтуха. В
городской
больнице.
Второго
похороны.
Во сколько,
Абрам
Яковлевич?
Где? Откуда?
Ты сможешь
прийти? Я
буду тебе
очень признателен.
Папа любил
тебя
Да-да,
конечно, я
приду,
конечно, я
обязательно
Спасибо.
Они
разошлись:
Абрам к
мясо-молочному
отделу, Илюша
к
винно-водочному.
Было
людно, шумно,
суматошно,
советский
народ
готовился к
празднованию
Нового 1970-го
года.
о
В
назначенный
час Илюша
подошёл к
больнице,
спросил у
пробегавшей
хромоногонькой
сестрички,
где
находится
морг, она
махнула "вон
тама", "ага,
спасибо",
кивнул и
свернул за
угол.
У
крылечка переминались
с ноги на
ногу
(примораживало)
человек
семь-восемь,
среди них
Абрам с Аллой,
Инна с
незнакомым
Илюше
немолодым
мужчиной, она
держала его
за локоть, а
он всё время
сморкался в
жёлтый
платок, и ещё
какие-то
старушки. На
похоронах не
принято здороваться.
Обменялись
несколькими
ничего не
значащими
словами.
Папа жил
долго, а
мучился
недолго,
проговорил,
ни к кому не
обращаясь,
Абрам
Яковлевич.
Папа с мамой
прожили
достойную
жизнь, добавила
Инна.
Ей
никто не
ответил,
известно, что
молчание знак
согласия, а
Иннин
спутник
звучно
высморкался
в жёлтый
платок.
Вот-вот
должны были
вывезти из
морга тело покойного.
Илюше было не
по себе от
сознания предстоящей
встречи-прощания.
"А
ведь нас трое
всего
мужиков-то
Усопший был
верующим
евреем,
необходим
миньян,
десять
мужчин. А где
он, миньян?..
Хорошо, что
зима, все в
шапках, можно
обойтись без
ермолок
"
Абрам
Яковлевич,
тихо спросил
Илюша, почему
нет миньяна,
почему нет
стариков,
ведь живы ещё
старики, ещё
не все
умерли
Почему никого
нет?
Они стали
сторониться
папы после
указа в газете.
Указа? Какого
указа?
Ты не читал
указа? Его
печатали в
газете.
Нет, не читал
В какой
газете?
Указ
Президиума
Верховного
Совета. Ты
разве ничего
не знаешь?
Один
его зрачок
смотрел на
Илюшу, второй
гулял где-то
в чистом
заснеженном
поле.
Поле
русское поле
Нет, я ничего
не знаю.
В газете был
напечатан
Указ о
награждении папы
высокой
правительственной
наградой за
многолетнюю
помощь
органам
государственной
безопасности.
Обычно такие
указы в открытой
печати не
публикуют, но
папа был уже
стар, ему
незачем было
скрывать. Он
сам попросил,
чтобы сняли
секретность
и
опубликовали.
Папа всегда
Он
говорил,
говорил, он
хотел
выговориться,
рассказать о
том, каким
хорошим,
честным, преданным
был его
замечательный
отец. Он
говорил и
говорил и
говорил, уже
вывезли
коляску с
телом, лицо
покойника
было
неприкрыто,
жёлтое лицо
старого еврея,
умершего в
городской
свердловской
больнице от
желтухи, лицо
обладателя
высокой награды,
верно
служившего
советской
власти.
На
кладбище
Илюша не
поехал.
Ничего не
стал объяснять,
просто
повернулся и
ушёл.
2007
год,
октябрь-ноябрь.