Юлий Кошаровский
МЫ СНОВА ЕВРЕИ
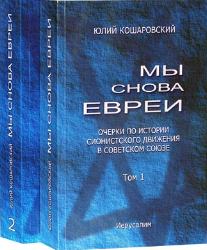 Несколько
слов об авторе и о его книге
Несколько
слов об авторе и о его книге
Юлика
Кошаровского Судьба послала мне 8 марта 1971 года у входа в одну из «римских»
аудиторий (третью или четвёртую, не помню) Уральского политехнического института.
Я оказался там по абсолютно чистой случайности и вдруг обнаружил группку людей,
отличавшихся очень явной, даже вызывающей семитской внешностью, причём, они
словно бы нарочито подчёркивали своё единство, сплочённость, вели себя демонстративно
свободно, ненапряжённо и этим выдавали неординарность ситуации и своего
присутствия в ней.
 Молодой человек с народовольческой бородкой
оказался тем самым махровым сионистом и антисоветчиком Юлием Михайловичем Кошаровским,
имя которого уже называлось в местной партийной печати и потому было мне
знакомо и мною априори любимо.
Молодой человек с народовольческой бородкой
оказался тем самым махровым сионистом и антисоветчиком Юлием Михайловичем Кошаровским,
имя которого уже называлось в местной партийной печати и потому было мне
знакомо и мною априори любимо.
Юлька настолько не сомневался в своём очень скором
отъезде на историческую родину, что казалось кощунством выражать при нём
сомнение или несогласие.
– В газете написали, чтобы мы пришли в ОВИР, и нас пинком
под зад вышвырнут вон из страны, без заявлений и вызовов. Идёшь с нами?
– Не задерживаться ни на один день, ни на один час, –
сказал Кошаровский. – Визу в зубы, и бегом к пограничному столбу!
Задержаться Юлию Михайловичу пришлось на восемнадцать
лет. Самый долгосрочный «отказник»…
Результат – четыре увесистых тома, объединённых названием
«Мы снова евреи» – воспоминания, размышления, экскурс в историю, социологию,
психологию, беседы с участниками событий, оценки – самые что ни на есть
субъективные, тем и ценные, ибо из мозаики наиболее субъективных оценок,
наблюдений и мнений и строится представление об объективной реальности. А за увесистыми
томами книги последовали не менее увесистые тома приложений. Там будут опубликованы
полные тексты интервью, взятых во время подготовки книги у её будущих персонажей,
хронология событий и пр., и пр., и пр. – планов у автора громадьё.
Я поздравляю моего теперь уже старинного друга с
завершением нелёгкого этапа труда, воистину «завещанного от Бога». А пожелание
– самое еврейское: нахес фун киндер. И – добавлю – фун эйнеклах. И, конечно, здоровья. Остальное купим.
29 ноября
2012 года.
СУДЬБА

Юлику Кошаровскому
Старая истёршаяся плёнка,
пересказ наивный и сухой:
по Москве плетущаяся конка,
граф Толстой, идущий за сохой
и в руке держащий хворостину,
люд рабочий мнётся у ворот,
а евреи едут в Палестину –
небо, чайки, море, пароход.
Подтверждая слово только делом,
прадеды и деды, твой и мой,
уходили не к чужим пределам,
а к себе, на родину, домой –
в топь болот, а не в поля ромашек,
в глушь степей бесплодных и немых.
А по правде – не
было там наших
предков,
ни твоих и ни моих.
На чужбине мучась и старея
и крепя мезузу на косяк,
повторяли каждый день евреи:
– В будущем
году… –
и только так.
Маялись надеждою напрасной,
жили жизнью очень непростой
под чужою,
под кроваво-красной,
а не под Давидовой звездой.
Множились и разрастались беды,
век кровавый
подводил черту.
Умирали прадеды и деды,
завещая нам свою мечту.
Узники берёзового рая,
отреклись мы от чужих затей,
поднялись и ринулись в Израиль –
книги сочинять, растить детей,
и, как полагается, старея
и крепя мезузу на косяк,
повторяют новые евреи:
– В нынешнем
году! –
и только так.
17 января 2012 года.
Интервью с Ильей Войтовецким
Интервью провел Юлий Кошаровский, май 2004 года.
![]()
 Мы познакомились в начале 1971 года в Свердловске.
После подачи документов на выезд мы оба потеряли работу по специальности и работали
вместе грузчиками вначале на товарной железнодорожной станции, а потом на заводе «Уралкабель». С
Ильей трудно было не подружиться. Хороший инженер-связист, он был еще поэтом, и
душа его без конца витала в словесных кущах, изливаясь бесконечным потоком афоризмов,
шуток, анекдотов, баек и всякого рода фантазий. Человек увлекающийся и теплый,
он отличался взрывным темпераментом, недюжинной физической силой,
бесшабашностью и слабостью к женскому полу… – этакий еврейский гусар.
Мы познакомились в начале 1971 года в Свердловске.
После подачи документов на выезд мы оба потеряли работу по специальности и работали
вместе грузчиками вначале на товарной железнодорожной станции, а потом на заводе «Уралкабель». С
Ильей трудно было не подружиться. Хороший инженер-связист, он был еще поэтом, и
душа его без конца витала в словесных кущах, изливаясь бесконечным потоком афоризмов,
шуток, анекдотов, баек и всякого рода фантазий. Человек увлекающийся и теплый,
он отличался взрывным темпераментом, недюжинной физической силой,
бесшабашностью и слабостью к женскому полу… – этакий еврейский гусар.
.
– Давай начнем с некоторых биографических данных.
– С самого начала у меня идут разночтения. По всем
анкетам я родился 19 января 1937 года, и это неправда. Я родился 18-го либо 19
декабря 1936 года, на месяц раньше. Но мама, воспользовавшись эвакуацией, якобы
потеряла метрику и записала меня на месяц позже. Таким образом она выиграла для
меня целый год. Я отмечаю день моего рождения 19 декабря.
– Это имеет значение только для гороскопов.
– Да, я их часто почитываю, и всё всегда совпадает – для обоих дней рождения.
– Да, гороскопы...
А где ты родился?
– Это произошло в городе Казатине Винницкой области.
– В какой семье?
– Семья немножко странная. Я расскажу… Отец мамы был
габай*, достаточно грамотный человек. Соблюдал все праздники и традиции, у
детей всегда был учитель иврита. Мама была самая младшая в семье, и когда
пришло время обучать ее языку, грянула Великая октябрьская социалистическая…
Маму языку уже не обучали. Но когда мы приехали в Израиль, мама очень быстро
начала говорить на иврите и читать газеты. Причем газеты она держала вверх
ногами. Оказывается, когда к старшим братьям и сестрам приходил учитель языка,
она сидела по другую сторону стола. Тогда изучали ашкеназийский иврит, но она
очень быстро перестроилась и даже была переводчицей в Сохнуте, в Министерстве
абсорбции.
– Когда она приехала?
– В 72 году в возрасте 64 года. И у нее всплыл иврит, и
она заговорила на нем практически свободно, успевала читать титры по
телевизору, чего я тогда еще не мог. Мама была очень способным человеком. Она
окончила коммерческое училище, что в то время было очень хорошим образованием,
владела несколькими языками: русским, украинским, польским, немецким,
французским, идишем<,> и, как оказалось,
древнееврейским. Я тоже знал идиш, читал и писал на нем.
– Где ты научился?
– По папиным письмам с фронта. Дело в том, что мама
приходила с работы поздно, а письма приходили днем, и мне не терпелось узнать,
что папа с фронта пишет.
– Тебе было четыре года, когда началась война.
– Я по-русски читал с трех–четырех лет.
– Тебя учили или сам?
– Сам научился. Папа начинал письма всегда одинаково,
поэтому начало я знал наизусть, а дальше методом подстановки и прочее… – выучил.
Потом, уже в Свердловске, во время летних каникул я не поехал к родителям, а
пошел в библиотеку имени Белинского. Я нашел там собрание сочинений Шолом-Алейхема
на идише – 15 томов – и все эти тома от
корки до корки проштудировал.
– Он на идише интереснее, чем на русском?
– Конечно, несравнимо даже. Я даже стихи писал на идише. У мамы был жених,
который уехал в Палестину. Это произошло в 34-м году. Но дверь быстро
захлопнулась, и мама осталась… и вышла за папу. Приехав в Израиль, она сразу
начала наводить справки о своем бывшем женихе. По «Почтовому ящику 92 – мы
помогаем разыскивать родственников» она получила ответ, что он умер за месяц до
ее приезда в таком-то кибуце.
Папу воспитывала старшая сестра, бывшая на девять лет старше его. Он до
конца жизни так и не научился говорить по-русски. Его родным языком был идиш с
большими вкраплениями украинских и русских слов, тарабарский такой идиш. Папа с
мамой говорили именно на этом языке. А я уже прочитал Шолом-Алейхема и
посмеивался над их идишем. При гоях они говорили на этом идише. Наша хозяйка
Дарья Никандровна говорила: «Странный язык, говорят по-своему, а я все понимаю».
Читать и писать по-русски его научила мама еще в Казатине, но писал он до конца
жизни печатными буквами.
– Он где-нибудь учился?
– Нигде не учился, но когда его взяли в Красную армию, он
преподавал там в ликбезе. Такая семья. Родители поженились в 36-м году. Я был
единственным ребенком. Он ушел на фронт в августе 41-го и вернулся 11 ноября 45-го
года.
– Вы вернулись в Казатин?
– Нет, нет. Мы были в эвакуации в Троицке. Он сказал, что
обратно на Украину мы не поедем, потому что там жуткий антисемитизм. Так мы остались
на Урале. Потом в 49-м году мы переехали из Троицка в Копейск. В 54-м я окончил
школу и уехал в Свердловск получать высшее образование. Мечтал о радиофаке, но
евреев в то время на радиофак не принимали.
– Школу ты окончил на хорошем уровне?
– Не очень. Это был шахтерский поселок, и там были два
еврея на всю школу. 13 января 1953 года в «Правде» была статья по «делу врачей».
Когда 14 января я подошел к школе, вся школа – все ученики стояли и ждали моего появления. Когда я подошел, в меня
полетели куски льда, камни, осколки стекла. Я повернулся и ушел домой… и до мая
туда больше не ходил. Директор школы был евреем и всё понимал. Он так
организовал дело, что ученики из нашего класса приходили ко мне вечером домой и
приносили домашние задания. Так продолжалось до пятого апреля. Пятого марта
умер Сталин, а пятого апреля было сообщение, что врачи не виноваты, и к первому
мая я вернулся в школу.
– Тебя простили…
– Да, меня простили. В учебнике по литературе 1947 года
издания было два абзаца о Шолом-Алейхеме, а в учебнике 1948 года издания эти
абзацы исчезли. Я на это обращал внимание, и на меня все это действовало.
Врачей освободили, мне уже 16 лет, и я пишу письмо в Москву на всесоюзное радио:
«Уважаемая редакция, очень вас прошу сделать передачу о народном артисте
Советского Союза Соломоне Михайловиче Михоэлсе». Это письмо чудесным образом
попало в руки женщины-еврейки, которая там работала, и эта женщина была родом
из Казатина. Она это письмо, конечно, никому не показала, а написала моей маме,
с которой была знакома по Казатину: «Скажи своему сыну, чтобы не высовывался.
Это может плохо кончиться». Так что передачи о Михоэлсе на всесоюзном радио не
было, а письмо моей маме по этому поводу было.
– И как мама отреагировала?
– Меня выпороли – в очередной раз.
– Действительно били?
– Да, да…
– И мать, и отец?
– Да, даже связывали и били. Мой папа кричал: «Ты хочешь
быть умнее всех?» – и порол. А я не понимал, в чем моя вина. В 54-м году я
приехал в Свердловск поступать на радиофак. В приемной комиссии мне прямым текстом
сказали: «Евреев на радиофак не принимаем».
– У тебя был хороший аттестат?
– Неплохой. Вообще-то меня тянули на медаль, но эти
события с «делом врачей» все испортили. Тем не менее, был хороший аттестат.
Вначале я попал на механический факультет, потом перевелся на металлургический:
программа по математике была на нем лучше, чем на механическом. А я надеялся
когда-нибудь попасть на радиофак и поэтому предпочел факультет, который по
уровню общеобразовательных дисциплин приближался к радиофаку.
– Ты еще не понимал, что ты вообще-то гуманитарий, а не
технарь?
 – Почему? Я был технарем. У меня было второе место на всесоюзном конкурсе
радиолюбителей. Первое место занял минский радиозавод, а второе место – Илюша
Войтовецкий из города Копейска. Я был абсолютный технарь. Так вот, я на третьем
курсе, проходит 20-й съезд партии, и мы вроде бы реабилитированы. А в УПИ была
довольно сплоченная группа еврейских студентов. На Украине поступить в вуз было
практически невозможно, и евреи с Украины ехали поступать в Свердловск. В
результате в УПИ оказалась довольно большая группа студентов, которые свободно
говорили на идише. Никто из них, правда, не умел читать и писать. В 56-м году я
собрал группу таких ребят и начал обучать их еврейской грамоте. Мы
договорились, что будем говорить между собой на идише. В это время Бухарест передавал
на коротких волнах передачи на идише. Все передачи были чисто культурного
плана: о Гольдфадене, о еврейском театре…
– Почему? Я был технарем. У меня было второе место на всесоюзном конкурсе
радиолюбителей. Первое место занял минский радиозавод, а второе место – Илюша
Войтовецкий из города Копейска. Я был абсолютный технарь. Так вот, я на третьем
курсе, проходит 20-й съезд партии, и мы вроде бы реабилитированы. А в УПИ была
довольно сплоченная группа еврейских студентов. На Украине поступить в вуз было
практически невозможно, и евреи с Украины ехали поступать в Свердловск. В
результате в УПИ оказалась довольно большая группа студентов, которые свободно
говорили на идише. Никто из них, правда, не умел читать и писать. В 56-м году я
собрал группу таких ребят и начал обучать их еврейской грамоте. Мы
договорились, что будем говорить между собой на идише. В это время Бухарест передавал
на коротких волнах передачи на идише. Все передачи были чисто культурного
плана: о Гольдфадене, о еврейском театре…
![]() – Откуда у тебя такая мотивация на идиш? – казалось бы, тебя уже не раз за такие штуки пороли и приговаривали: «Не
высовывайся!»
– Откуда у тебя такая мотивация на идиш? – казалось бы, тебя уже не раз за такие штуки пороли и приговаривали: «Не
высовывайся!»
– С одной стороны, я всегда подчеркивал свое еврейство, а
с другой, во мне был силен дух противоречия. Тут нужно вернуться к еще одному
факту моей биографии – к Дарье Никандровне. Это была моя
Арина Родионовна. Простая русская неграмотная женщина, она помогла мне
распрямить спину во время войны. Когда на улице мне кричали «абрам», «жид», «кривое
ружье», «ташкентский фронт», я должен был ходить с согнутой спиной. Когда я
приходил домой, Дарья Никандровна пересказывала мне библию: о Давиде, о
Соломоне, о пророках. Она все время подчеркивала, что они были евреями. И от
Дарьи Никандровны я с детства знал, что не стыдно быть евреем, что нужно
гордиться этим. Надо сказать, что до того, как она нас встретила, она не представляла, что в настоящем мире существуют
евреи. Когда она пошла нас прописывать, ей в милиции сказали, что ее
квартиранты – евреи. Она нас потом расспрашивала, что такое современные евреи.
Она знала, что евреи жили в древнем мире, что это святой народ, что Иисус был
евреем…
– Которого евреи распяли… – один из кодов христианской
цивилизации.
– Этого в ней не было. Для нее Иисус и все апостолы были
евреями. В моем рассказе «… и будем ходить по стезям его», если ты помнишь, был
поп-выкрест, который агитировал меня креститься. Он доже в церкви, куда я
приходил с Дарьей Никандровной, говорил со мной на идише: «Мальчик, я сам
ненавижу всех этих христиан. Но лучше быть живым христианином, чем мертвым
евреем». И Дарья Никандровна говорила, что он нехороший человек. «Человек
должен прожить в той вере, которую получил от отца с матерью. Нельзя быть
вечным квартирантом. Твой дом на Святой земле, где родился и жил Учитель. Ты должен
вырасти и уехать к себе домой». Я знал это с пятилетнего возраста от Дарьи
Никандровны Монетовой. Она была абсолютно безграмотным человеком. Это сохранило
во мне чувство собственного достоинства, не дало согнуться, не дало сломаться.
– Вернемся в 56-й год…
– Да, я вел этот кружок, объяснял ребятам какую-то
грамматику, буквы. Потом мы включали Бухарест, слушали и кайфовали. Потом
кто-то стукнул, что мы по вечерам слушаем иностранное радио.
– В ваших встречах не было ничего антисоветского?
– Наоборот. После двадцатого съезда хотелось доказать,
что мы тоже люди. У нас были очень просоветские, просоциалистические
настроения. С нас ведь сняли клеймо «врагов советской власти». Мы за советскую
власть, мы любим ее в новом прочтении. Мы вытаскивали имена: евреем был
Свердлов, – мы этим гордились. У нас не было абсолютно никакого антисоветизма.
Это идиотская советская власть сделала нас врагами. Прихожу я вечером в общежитие,
и мне мой товарищ рассказывает: «Приходила Римма Викторовна Иванова, аспирантка
с кафедры марксизма-ленинизма, и сказала, что против тебя заведено «персональное
дело», и ей поручили его вести». Она беседовала с ребятами обо мне, говорила,
что всё очень серьезно. Пригласила меня к себе и очень к себе расположила.
Оказалось, что ее муж еврей, и она очень сочувствует евреям. Она предложила,
чтобы я собрал всех ребят, которые меня поддерживают, и чтобы они написали
коллективное письмо в мою защиту.
– Замысел был, конечно, выявить круг твоих друзей?
– Да, потом все они были исключены из комсомола и из
института.
– И ты тоже?
– Из комсомола да, а из института нет. После заседания
комитета комсомола, на котором утвердили мое исключение, друзья надоумили меня
пойти к главврачу Софье Симоновне Ильиной-Петровой. Она меня спасла. Она дала
мне больничный лист, потом академический отпуск, и я год проболтался у
родителей в Копейске. За этот год из института исключили и забрали в армию
массу студентов, а я был в академическом отпуске. И вдруг в газете «Комсомольская
правда» появляется статья «О перегибах в идеологической работе в Уральском политехническом
институте». И подвели черту.
– А исключенных ребят не восстановили?
– Их не восстановили, но они потом тоже позаканчивали –
кто на вечернем, кто на заочном. Некоторые из них здесь, в Израиле, кое-кто
приезжал ко мне в гости из России. Когда я вернулся из академического отпуска,
первый, кого я встретил, был Женя Казанцев – секретарь институтского комитета комсомола. «Ты читал статью в «Комсомольской
правде»?» –
спрашивает. – «Читал». – «Так подавай
заявление, тебя восстановят в комсомоле». Подавать заявление о восстановлении в
комсомоле я не стал, но из института меня уже не выгнали, а восстановили из
академического отпуска. Потом объявили дополнительный набор на радиофак. Я
потерял год на академическом отпуске, еще один год на переходе на радиофак и
поэтому окончил ![]()
 институт не в 59-м, а в 60-м году.
институт не в 59-м, а в 60-м году.
– Где ты устроился в Свердловске?
– В 340-м «ящике».
– Что это такое?
– Навигационная аппаратура для подводных лодок.
– А еврейская кампания какая-то была?
– Нет, уже не было. Я сознательно поставил себе
ограничение в этом смысле.
– Шестидневная война на тебя как-то повлияла?
– Первого марта 67 года я увольняюсь из 340-го «ящика» и перехожу в
Уралэнергочермет, где создаю группу промышленной радиосвязи, возглавляю ее и занимаюсь
промышленной радиосвязью на предприятиях черной металлургии СССР. И вот
Шестидневная война, и я помню сборище на лестничной площадке, и один картавый
еврей кричит в возбуждении: «А что-о, я бы с удовольствием воевал там. Это наша
страна».
 Была гордость за страну, за евреев. И вот Ленинградский процесс, я сижу по
ночам и слушаю мою «Спидолу», и вдруг читают письмо свердловских евреев в
защиту арестованных, и я понимаю, что в Свердловске это есть. А ко мне за
некоторое время до этого стали заходить два отвратительных типа: Борька
Рабинович и Вовка Акс. Борька Рабинович – это младший брат моего друга Илюшки Рабиновича.
Года два они ко мне приходили, расспрашивали, чем занимаюсь. «Вот, говорю,
собираю альбомы живописи». Они: «Да, это
интересно, но надо заниматься не этим». Так они капали мне на мозги. Вера (бывшая жена, - Ю.К.) их так
возненавидела, что уходила из дома, когда они приходили. И вдруг это письмо, и
я понимаю, что, конечно, они имеют к этому отношение. А еще… Вовка Акс на
какой-то праздник предложил собрать еврейскую компанию. И мы собрались на
частной квартире на Сортировочной. И там ничего особенного не было, кроме того,
что Вовка Акс встал и сказал: «Давайте выпьем за то, чтобы мы никогда не забывали,
что мы евреи». И все вдруг стали испуганно расходиться по домам. Вот такие
островки были. А почва была благоприятная. После этого письма я сам пошел
искать Акса и Рабиновича. Мне сказали, что 8 марта на кафедре физики будет
собрание, на котором их будут обсуждать. Я пришел и встретил возле аудитории тебя, Борю Эдельмана и
ещё кого-то из ребят. Внутрь вас не пустили. Из вашего разговора мне стало
ясно, что десятого марта, в понедельник, вы все идете в ОВИР подавать документы
на выезд. Вас ведь тогда в газете обвинили в том, что сами вы не подаете, а
везде жалуетесь, что нельзя выехать, то есть занимаетесь «клеветой». Вы
увидели в этом счастливую возможность попытаться подать документы без вызовов,
ссылаясь на газетную публикацию. Ты сразу набросился на меня: «Хочешь тоже?
Пошли с нами». А я давно хотел. И – пошел.
Была гордость за страну, за евреев. И вот Ленинградский процесс, я сижу по
ночам и слушаю мою «Спидолу», и вдруг читают письмо свердловских евреев в
защиту арестованных, и я понимаю, что в Свердловске это есть. А ко мне за
некоторое время до этого стали заходить два отвратительных типа: Борька
Рабинович и Вовка Акс. Борька Рабинович – это младший брат моего друга Илюшки Рабиновича.
Года два они ко мне приходили, расспрашивали, чем занимаюсь. «Вот, говорю,
собираю альбомы живописи». Они: «Да, это
интересно, но надо заниматься не этим». Так они капали мне на мозги. Вера (бывшая жена, - Ю.К.) их так
возненавидела, что уходила из дома, когда они приходили. И вдруг это письмо, и
я понимаю, что, конечно, они имеют к этому отношение. А еще… Вовка Акс на
какой-то праздник предложил собрать еврейскую компанию. И мы собрались на
частной квартире на Сортировочной. И там ничего особенного не было, кроме того,
что Вовка Акс встал и сказал: «Давайте выпьем за то, чтобы мы никогда не забывали,
что мы евреи». И все вдруг стали испуганно расходиться по домам. Вот такие
островки были. А почва была благоприятная. После этого письма я сам пошел
искать Акса и Рабиновича. Мне сказали, что 8 марта на кафедре физики будет
собрание, на котором их будут обсуждать. Я пришел и встретил возле аудитории тебя, Борю Эдельмана и
ещё кого-то из ребят. Внутрь вас не пустили. Из вашего разговора мне стало
ясно, что десятого марта, в понедельник, вы все идете в ОВИР подавать документы
на выезд. Вас ведь тогда в газете обвинили в том, что сами вы не подаете, а
везде жалуетесь, что нельзя выехать, то есть занимаетесь «клеветой». Вы
увидели в этом счастливую возможность попытаться подать документы без вызовов,
ссылаясь на газетную публикацию. Ты сразу набросился на меня: «Хочешь тоже?
Пошли с нами». А я давно хотел. И – пошел.
– Да, всего два дня до
подачи оставалось. Ты без всякой подготовки…
– Вся предыдущая жизнь была подготовкой.
– Что происходит
дальше?
– Прошло совсем немного времени. Мы с Маркманом сидим у Акса. Маркман – а
он часто умел предвидеть развитие событий – говорит: «Будут вербовать,
обязательно будут… либо кого-нибудь из нас, либо чужих зашлют. Ясно, что мы не
останемся одни, начнут приходить новые люди, и неизвестно, кто придет». И
дальше: «Давайте сразу договоримся. Если будут вербовать, мы соглашаемся и
сразу же ставим остальных в известность». И вот он это сказал, а через два дня
меня вызывают в кабинет директора Уралэнергочермета, там сидит «товарищ в
штатском», помнишь? – Олег Николаевич Романов, забирает меня с работы и на
своем новеньком «Запорожце» везёт на улицу Вайнера четыре, в Комитет, там с рук
на руки передает Николаю Степановичу Познякову (дорогие сердцу имена!), и тот
мне предлагает...
– Когда по времени это
было?
– Вскоре, десятого марта мы подали, и в марте же меня вызвали. Почему я
хорошо запомнил время? Потому что когда Боря Эдельман уезжал, а он уезжал в
марте, я с ним передал в Израиль, что подписал в КГБ бумагу. Между собой мы
договорились так: все, что не должны знать там,
не должен знать и я. То есть, если вы что-то обсуждаете, меня с вами быть не
должно. Я должен знать только ту версию, которую могут знать они.
– Ты уверен, что
больше никого не вербовали?
– Откуда я знаю? Подозревали некоторых, не будем называть сегодня их
имена. Во всяком случае, я тогда согласился и был уверен, что никого не заложу
просто потому, что мы договорились о правилах игры. Откуда я мог знать, как
поведу себя? А вдруг мне иголки под ногти начнут загонять… Поэтому лучше мне
знать только то, что можно знать им. Так
это и шло. Все, о чем меня спрашивали в КГБ, я тут же рассказывал ребятам, а в
КГБ я без опаски мог рассказывать все, что знал.
– Ты не думал, что
после этого они тебя никогда не отпустят?
– Было. Акс и Рабинович говорили: «Ты теперь никогда не уедешь». Я и так
знал, что никогда не уеду. У меня была самая высокая форма допуска – испытывал
навигационную аппаратуру для подводных лодок, да и в проектировании, и в
макетировании участвовал. Может быть, это была игра в жертвенность, молодой
был, горячий… но я решил «принести себя на алтарь», если потребуется. Только
здесь, в Израиле, я узнал, почему меня отпустили, а тогда это вызвало
удивление, даже недоумение.
– Твоим куратором был
сам Поздняков?
– Да, сам Поздняков.
– Он был, по-моему,
подполковником?
– Подполковником, а потом, уже после моего отъезда, пошёл в гору, стал
полковником.
– Как он вел с тобой
работу?
– Была квартира на Первомайской улице. Я приходил
туда в определённое время в один и тот же день недели. В этой квартире жил
какой-то старичок, видимо, их бывший сотрудник или стукач. В квартире была
комната. Обстановка аскетическая: койка, платяной шкаф, стол и два стула. В ней
мы беседовали. Не исключено, что там был микрофон, даже наверняка был.
Самое интересное происходило после встречи. Николай
Степанович выходил проводить меня. Во дворе рос очень густой кустарник, а среди
кустов стояла скамейка. И вот там он со мной беседовал «по душам», неофициально,
без «прослушки». Не знаю, насколько он бывал откровенным, тогда я ему не верил,
но всё равно было интересно. Он мне, например, говорил: «Я знаю, что ты
перематываешь людям «Спидолы» на тринадцать, шестнадцать и девятнадцать
метров, чтобы «голоса» слушать без помех. Перемотай мне тоже». «Зачем вам? –
говорю. – Вы же всё слушаете свободно, вам ведь разрешается». «Нет, – говорит,
– мы получаем «ролики» с записями только тех фрагментов, которые нас
непосредственно касаются по службе. А все остальное мы слушаем с тем же
глушением. Перемотай, а…»
– Перемотал?
– Нет, конечно. «Вот я вам перемотаю, – говорю, – а вы же меня потом и
посадите…»
– О чём Поздняков тебя
спрашивал?
– Много о тебе спрашивал.
– Обо мне?
– О тебе. Все, что было вокруг твоей посадки. Их интересовало, на что ты
способен, до какой степени готов пойти на крайние меры. Они задавали такой,
например, вопрос: «Кошаровский способен пойти на акт самоубийства?» Я говорил: «Если
решит, не дрогнет». Их почему-то именно этот вопрос больше всего тогда волновал.
– Я у них на допросе
один раз умирал… сам ли, они ли дали мне что-то, не знаю, но увозили меня на «скорой».
Поздняков бегал бледный, испуганный… Они ведь
тоже прошли не одну «чистку», боялись.
– Но тогда ведь было не самоубийство.
– Да, но страха у меня
не было, а они к тому времени уже много чего успели мне продемонстрировать.
– Ну вот, их и волновало, дрогнешь ты или нет. Но сослагательного
наклонения здесь нет и быть не может – что было бы, если бы?.. Как я могу
знать? Они боялись самосожжения или чего-нибудь подобного. Я точно помню, что
я не просто сказал, а Поздняков попросил меня это написать собственноручно и
подпись поставить. Им надо было себя подстраховать – боялись. Я и написал: «Если
Кошаровский решит, я считаю, что он сделает».
– Относительно наших
встреч, нашей работы, преподавания иврита – спрашивали?
– Тогда еще не было никакого преподавания иврита.
– Ну да! Я с
шестьдесят девятого года преподавал.
– Я не знал. То есть я действительно мало что знал. И старался не интересоваться.
От многих знаний многая печаль. Да и прошло с тех пор столько времени… Иногда
мне формулировали задачу: к следующей встрече выяснить то-то и то-то. Я
приходил в основном к Вовке Аксу и говорил: «Вовка, интересуются тем-то и
тем-то». Говорил и уходил. Дескать, сами ломайте голову. Потом он мне говорил:
скажешь так-то и так-то. И я говорил.
– У тебя не возникало
ощущения, что они подозревают тебя в двойной игре? Ведь ты же сионист.
– Мне однажды Поздняков сказал: «Илья, ты не думай, что мы ничего не
понимаем. Мы же понимаем, что ты…» Я промолчал, ничего не сказал, а он не стал
уточнять.
– Они пытались тебя
припугнуть, приструнить? Они же всегда стараются сломать человека, даже если
изображают дружеское отношение.
– Нет. Со стороны Позднякова всегда была демонстрация большой симпатии.
– Это
профессиональное.
– Мы же договорились представлять дело таким образом, что мы не враги
советской власти и сгруппировались на почве отказа. Нас вообще мало интересует,
что происходит в Советском Союзе. Это была игра для них, но ведь в этом была и правда, поэтому и притворяться не
приходилось.
– Да, это было правдой для подавляющего большинства
сионистов и для меня в частности. А вот сам процесс вербовки – ты же там не
мог просто так сказать:
«Да, я готов». Не поверили бы. Они-то знали, что нормальные люди не любят
заниматься такими делами. Они должны были тебя чем-то прижать, припугнуть,
пошантажировать.
– В шестьдесят четвертом году я организовал на заводе забастовку из-за
неправильного распределения квартир. Прошёлся по цехам, поговорил с рабочими, и
рабочие бросили работу, вышли во двор, начали «базарить», качать права.
Начальство – и заводское, и городское – перепугалось. Меня после этого
таскали. Начальник первого отдела Александр Николаевич Киляков говорил мне в
присутствии куратора от КГБ: «Ну что, распустил вас Никита? При Сталине вашего
брата держали крепко, а сейчас – и работу вам дай полегче, и зарплату побольше,
и квартиру потеплее… Ничего, придет наше время. Знаешь, кем я был во время
войны? Начальником особого отдела Балтийского флота! Сколько таких
длинноносых, как ты, я к стенке поставил!» Я пожаловался главному инженеру, с
которым был в хороших отношениях, и он это дело прекратил. Кстати, главным
инженером у нас был Лев Алексеевич Воронин, при Горбачёве он стал заместителем
премьера Рыжкова, тоже свердловчанина. Ну вот. А когда меня вербовали,
Поздняков мне это старое «дело» – папочку серенькую с тесемочками – показал и
говорит: «Если мы вот это положим на
стол прокурору, загремишь. Никто не будет обращать внимания на то, что шесть
лет прошло. Для нас срока давности не существует. Так что выбирай: либо ты нам
– подписку, либо мы – папку на стол прокурору».
– А авантюрный интерес
– поиграть в это страшное приключение – был? Вот я, такой умный, расталантливый
– переиграю…
– Да, тоже… я же говорю: молодой был. Мне показалось – интересно… Ну, и
игра в жертвенность – за друзей я готов в огонь и в воду. Всё было искренне. Я
же после этого сильно активизировался, коллективные письма писал – в защиту
Кукуя и другие тоже.
– Да, письма у тебя
здорово получались, ты же литератор, поэт.
– Мне как-то Поздняков попенял: «Илья, ты вроде наш человек, а ведёшь себя,
как отъявленный сионист, усердствуешь слишком». «А как же иначе, Николай
Степанович? – говорю. – Чтобы мне доверяли, я, как все, должен, даже больше…»
Он нехотя согласился и больше меня не донимал. А письма уходили на Запад и
попадали на «голоса», и они узнавали
там мой почерк. Так что некоторые вещи я мог делать даже с меньшим риском, чем
вы.
– Например?
– На суд Кукуя, например, из всей группы попали только я и его жена Элла. Я
ведь с Кукуем знаком не был и не проходил по делу в качестве свидетеля. Вас
держали в отдельной комнате для свидетелей, а я сидел в зале. Потом, после
судебного заседания, я по памяти составил протоколы суда. И мы переслали их в
Израиль, а потом их зачитывали по «Голосу Израиля». Я поехал с Эллой в Москву
на кассационный суд Валеры. Ей удалось пройти в зал и записать всё на диктофон.
Потом я распечатал запись, и москвичи переправили материал на Запад. В Москве я
познакомился с Сахаровым, Чалидзе, Якиром, часто бывал дома у Чалидзе и
передавал ему наши свердловские материалы и письма. Сахаров и Чалидзе написали
своё письмо протеста по делу Кукуя с теми подробностями, которые я им
рассказал. Якиру я подготовил большой материал по делу Кукуя для «Хроники
текущих событий», которую он издавал. На квартире Якира меня засекли, Поздняков
мне об этом сам сказал, но больше он меня не корил. Может быть, у них были
какие-то планы на мой счёт. Должен признаться, что давалось мне все это далеко
не просто. Иногда по ночам просыпался, сердце зажимало. Но виду не подавал,
держался. А у Веры хранились номера телефонов Сахарова, Чалидзе и Слепака – на
тот случай, если я не вернусь домой с очередной «встречи», чтобы сразу всех на
ноги поднять. Ведь и в Израиле обо мне знали, я надеялся, что там тоже сразу
подключатся…
– Ты пошел со мной
грузчиком работать, потому что тебе посоветовал Поздняков?
– Нет, этого он не советовал. Он, конечно, знал, что мы работаем вместе, но
эту тему не затрагивал.
– У меня одно время
было ощущение, что они приставили тебя ко мне в качестве сторожа, чтобы я чего-нибудь
не натворил…
– Этого не было. Я действительно за тебя волновался. Ведь после ареста
Кукуя ты был первым кандидатом на посадку, а вёл ты себя вызывающе, и
спровоцировать тебя им ничего не стоило. И я решил: если постоянно буду с тобой,
ты будешь хоть как-то защищён.
– А как получилось – я
понимаю, что вопрос, видимо, не к тебе, но все же, – что они тебя отпустили, да
еще при такой высокой секретности?
– Как и почему я уехал? Это мне уже здесь, в Израиле, рассказали. Намечалась
встреча Брежнева с Помпиду. Союз был очень заинтересован в хороших отношениях
с Францией. Тогда они приняли – вопреки всякой здравой логике! – французскую
систему цветного телевидения, и французы строили Останкинскую телебашню. Из
Канцелярии главы правительства Израиля людям Помпиду передали список из восьмидесяти
семей с тем, чтобы президент Франции лично походатайствовал за них перед Брежневым.
В списке были Володя Акс, Элла Кукуй и я.
– А меня – не было?
– А тебя, наверное, не было.
– В результате ты с
самой высокой формой допуска уезжаешь, а я – со второй – остаюсь еще на восемнадцать
лет.
– Ну, Юлька, я не виноват, не я список составлял… Яка Янай из Натива
представил мне такой сценарий. Из канцелярии Брежнева звонок в Свердловск: «У
вас есть такой – Войтовецкий?» «Да, есть, но у него та-акой допуск!» «Причём
тут, мать вашу, допуск! Французский президент просит! Немедленно, мать вашу,
выпустить!» А дальше уже то, что знаю я. Меня пригласили в КГБ, вернее, в ОВИР,
ведь они находились в одном здании. В комнату «случайно» заглянул Поздняков. Он
показывает мне письмо с завода, где начальник лабораторно-исследовательского
отдела Давид Аркадьевич Гольдринг пишет возражение против моего отъезда – «в
связи с…» – ну, в общем, ясно. Николай Степанович меня спрашивает: «Илья, вы
согласны написать нам от своего имени письмо, что никакой секретной информацией
не обладаете и никаких государственных тайн не знаете?» «Конечно, – говорю, –
согласен». Дают мне лист бумаги, ручку с пером, такую канцелярскую, которую
обмакивают в чернила, и Николай Степанович диктует мне совершенно идиотский
текст письма в Комитет государственной безопасности: «Я, Войтовецкий, …
работая в почтовом ящике №340, занимался только гражданскими гирокомпасами,
никакого отношения к специальной секретной аппаратуре не имел и ничего о ней
не знаю». «Распишитесь. Спасибо, можете идти». Вот и всё.
– Это когда было?
– В октябре семьдесят первого. Проходит какое-то время, игра продолжается,
мы встречаемся всё на той же квартире. На одной из встреч Николай Степанович мне
говорит: «Илья, у меня большая просьба… Седьмого ноября я дежурю в приемной
КГБ. Позвони мне, пожалуйста, поздравь с праздником». «Ладно, – говорю, –
поздравлю». У нас дома телефона не было. Вечером седьмого иду в телефонную
будку, набираю номер. «Николай Степанович… с праздником вас». В дымину пьяный
Николай Степанович мычит: «Илья, я хочу тебе сказать, что в ближайшие дни ты
получишь от меня радостное известие. Но у меня к тебе просьба. Где бы ты ни
был, никогда не забывай, что если бы не Октябрьская революция, вашего Израиля
вообще не было бы. Обещаешь, что не забудешь?». – «Обещаю, Николай Степанович,
обещаю…» То есть<,> седьмого ноября он уже знал, что я скоро уеду.
– Они дали тебе
какое-нибудь задание?
– Со мной беседовал Вакуленко, заместитель начальника КГБ по Свердловской
области. Поговорили о Булгакове, о Солженицыне. Он просил быть с ним
совершенно откровенным – в ответ на его откровенность: «Вы можете откровенничать
сколько угодно, – говорю, – ваша откровенность совпадает с генеральной линией,
а моя не совсем». «Это между нами, Илья. Слово чекиста». «Тогда, – говорю, –
точно посадите». – «Неужели мы выглядим такими кровожадными?» Ну, меня и
понесло… Но ничего, обошлось. На последней встрече Поздняков сказал так: «Илья,
ты будешь гражданином Израиля. Ты должен быть лояльным гражданином Израиля. Но
не забывай, где ты жил, где вырос и получил образование. И знай: всё, что ты
будешь делать, ты будешь делать на благо нашей страны и на благо Израиля.
Поезжай, устраивайся, пускай корни. Когда надо будет, мы тебя найдем». Вот с
этим я и уехал.
– А когда ты
устроился, кто-нибудь пытался тебя искать?
– У нас была договоренность о переписке. Я должен был писать письма на имя
некоей Рахили Моисеевны Абрамович на «Главпочтамт, до востребования» – о том, 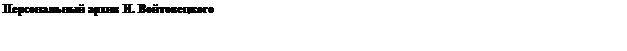
 как я устраиваюсь, всё о себе. И получать письма я
должен был от нее же, от Рахили Моисеевны. Первое, что я сделал…
как я устраиваюсь, всё о себе. И получать письма я
должен был от нее же, от Рахили Моисеевны. Первое, что я сделал…
– Ты пошел в Шин Бет…
– Нет, тут ведь уже давно всё знали. Я с Борей Эдельманом передал, потом с
Борей Рабиновичем передал, потом меня встретили в Вене, и там тоже был
продолжительный разговор… Мне в Свердловске по работе приходилось заниматься
промышленной радиосвязью и борьбой с индустриальными помехами на предприятиях
чёрной металлургии, я на эту работу перешёл из почтового ящика в шестьдесят
седьмом году. В рамках этой моей новой работы я познакомился с отчетом
Воронежского института связи по расчету и проектированию систем глушения на
всей территории Советского Союза. Нам этот отчёт прислали случайно, по
обычной советской безалаберности. Чтобы самому не расписываться в первом
отделе, я послал за отчетом моего подчиненного, толкового радиоинженера: «Пойди,
распишись, получи, почитай, а потом мне расскажешь». А там – системы магистрального
глушения и местные станции – вокруг больших городов. В первый же день по прибытию
в Израиль меня нашел Авраам Шифрин и говорит: «Илюша, в Израиле сейчас гостит
генеральный директор радио «Свобода» Макс Ралис (так, кажется, его звали). Он
завтра утром улетает в Париж. Ты можешь с ним сегодня побеседовать?» А мистер
Ралис специально приехал в Израиль опрашивать репатриантов о том, где и как слышна
его радиостанция. Я говорю: «Абрам, я перед отъездом имел счастье ознакомиться
вот с таким отчетом». Короче, Макс приехал в Арад в наш ульпан и простоял за
моей спиной всю ночь, пока я по памяти переписывал ему отчёт. Я исписал целую
тетрадку. Так прошла моя первая ночь в Израиле. Потом в журнале «Посев»
появилась статья о том, что в Испании на берегу океана было размещено антенное
поле и прием радиостанции «Свобода» во многих регионах СССР значительно
улучшился. Я был горд: в дело была запущена моя информация. Да мне и Макс потом
об этом говорил, он часто приезжал в Израиль.
– У тебя есть ощущение,
что тебе в чем-то удалось переиграть КГБ?
– Нет, они всё знали. Я никого не предал и, пожалуй, никого не спас. Но
намерения у меня были чистые.
– Было ли у тебя
ощущение, что у них была точная информация – помимо тебя?
– Тогда нет. Тогда у меня было ощущение, что я вас спасаю. Но сейчас я
вижу, что это скорее была не моя, а их игра.
– В Израиле ты,
наверное, тоже не успокоился?
– Не успокоился. Для начала меня отправили в Италию. Там я попал в руки к председателю
общества дружбы Италия-Израиль, польской еврейке Ирене Гароши. В
концентрационном лагере она познакомилась с итальянским профессором и вышла за
него замуж. Она достаточно хорошо знала русский. Она мне говорит: «Я хочу
устроить вам встречу с Альберто Моравия. Он хоть и коммунист, но все же еврей,
и я думаю, что он не откажется с вами встретиться». Потом она мне вдруг
говорит: «Альберто Моравиа сказал, что он сможет с вами встретиться только в
том случае, если получит на это разрешение от ЦК советской компартии. Но я
нашла человека лучше, чем Морали. Это Умберто Террачини, и вы с ним
встретитесь. Вы знаете, кто это?» – «Нет, не знаю». – «Он председатель
фракции коммунистической партии в итальянском Сенате. Он еврей, мы вместе с ним
сидели в концлагере». И Умберто Террачини действительно со мной встретился в
здании итальянского Сената. Это был коренастый, невысокого роста крестьянин. У
меня было много чего ему рассказать. Я ведь сопровождал Эллу на первое свидание
с Кукуем, и меня, с подачи Николая Степановича, пропустили к нему на час.
Валера порассказал о порядках в лагере. Мы просидели с Террачини несколько
часов. Я рассказал ему о свердловчанах, о Кукуе, о твоей голодовке… Он меня не
прервал ни единого раза, не задал мне ни одного вопроса. Потом, когда я
закончил, он похлопал меня по плечу, крепко пожал руку и ушел.
В Италии у меня была адская работа. Я провел там несколько недель, но
ничего не успел посмотреть. Меня с утра увозили на встречи, конференции, снова
встречи, и так без конца. Газеты были переполнены моими и Элкиными
фотографиями. Через несколько дней после встречи с Террачини в Италию приехала
делегация советского Антисионистского комитета во главе с Вергелисом. В составе
делегации был генерал Драгунский и актриса Быстрицкая. У них была встреча, на
которой присутствовал Умберто Террачини. И когда они заговорили о том, что в
Советском Союзе не существует еврейского вопроса, Террачини сказал буквально
следующее: «Если бы в Советском Союзе не было еврейского вопроса, вам незачем
было бы сюда приезжать. Очевидно, вопрос существует. А в какой форме он
существует, я могу вам рассказать». И он пересказал наш с ним разговор и
заявил, что коммунистическая фракция итальянского Сената рвет свои отношения с
Коммунистической партией Советского Союза. Это был жест! Потом международная
организация юристов-демократов объявила, что они прекращают свои отношения с
юридическими организациями Советского Союза. Когда я вернулся в Израиль, меня
уже ждало письмо от Рахили Моисеевны, и она прямым текстом: «У них руки длинные».
Причем письмо лежало в почтовом ящике в советском конверте без марки. То есть
они продемонстрировали, что конверт был положен вручную и что я досягаем. И тогда
мне сказали: «За границу ни в коем случае».
– А в Израиле как наши тебя защищали?
– Заботились. Я не знаю как, но заботились.
– Успокоился?
– Я всю свою историю описал и опубликовал в журнале «Посев» в статье «Стукачи».
Впервые «Посев» напечатал статью с продолжением в трех номерах. Статья была
переведена на английский язык. Я описывал методы вербовки и многое другое.
Угрозы со стороны КГБ продолжались в том же духе.
– В конце концов они от тебя отстали.
– Да. В какой-то момент письма перестали приходить. Одиннадцать с половиной
лет после репатриации я не выезжал из Израиля – за исключением одной
командировки в Европу. Потом, в середине восьмидесятых, я стал выезжать, но
каждый раз, когда ехал за границу, я делал это в организованных группах, и
руководитель моей группы знал, что за мной нужно приглядывать.
– Они многих пытались
вербовать.
– Дело не в вербовке, а в том, что можно дать подписку и не выполнить ее.
– Мне не приходилось
встречать людей, которые работали на них из любви… Время чекистов-идеалистов
кончилось в конце тридцатых годов. Потом людей вынуждали. Запугивали и
вынуждали… Когда эти люди оказывались в Израиле, они, за редкими исключениями,
сбрасывали с себя это ярмо.
– Может быть, но в моем случае это их очень разозлило... Долгое время я не
мог отделаться от ощущения, что вот – я иду по улице, а там за углом или на
следующей остановке стоит Николай Степанович. Этот кошмар меня долго
преследовал.
– С Нехемией Леваноном у тебя сложились хорошие
отношения?
– Да.
– Что за человек Нехемия?
– Я тебе расскажу про него интереснейшую историю. Я с ним
встретился в 54-м году в Челябинске! Невероятно, да? Я ехал на каникулы в
Копейск через Челябинск. Мама приехала туда меня встречать. Было начало ноября,
холодрыга. Мы стояли на автобусной остановке напротив касс Аэрофлота. И там
стоял человек… смуглый-смуглый. Было видно, что это иностранец, потому что на
нем был плащ с меховой подстежкой. У нас тогда такого не бывало. Стоит, смотрит
на меня и улыбается. Потом говорит на идише: «Холодно?» Я ему отвечаю тоже на
идише: «Холодно». Он улыбается и говорит: «А там тепло». – «Где там?» – спрашиваю, а мама уже выпустила иглы, дрожит от страха – вот сейчас нас посадят. Он
отвечает: «В Израиле». – «Вы оттуда?» – «Да». В это время подходит автобус, мама меня буквально заталкивает туда,
влетает за мной сама, и двери закрываются. Он
машет мне вслед рукой.
![]()
 – Он тебя здесь узнал?
– Он тебя здесь узнал?
– Слушай дальше. 1971 год. Меня приглашают в Кирию (квартал
правительственных учреждений в Тель-Авиве. – Ю.К.) на беседу. Я должен
встретиться с Якой Янаем. Стою в коридоре, жду, и вдруг мимо проходит тот самый
человек. Я его узнал. Захожу к Янаю и спрашиваю: «Кто тот человек, который проходил
сейчас по коридору и зашел во-он в тот кабинет?» – «Такой невысокий,
широкоплечий?». – «Да». – «Так это начальник нашей организации, Нехемия Леванон». И я рассказываю
Янаю эту челябинскую историю… Он говорит: «Идем!». Мы заходим к Нехемии, Яка что-то объясняет
ему на иврите, я ничего не понимаю. Нехемия смотрит на меня, глаза его теплеют,
и говорит: «Ну, тепло?». Я его спрашиваю, как он попал в закрытый город
Челябинск, а он: «Мой дорогой, в этой организации вопросы задаем мы, а не нам».
– Илья, ты писать стал по большому счету здесь?
– Нет, я писал всегда. Я писал стихи, и там были стихи,
посвященные Израилю (декламирует).
– Мы где-то продукты советской системы воспитания,
советской идеологии. Ты прожил полжизни там и полжизни здесь. Можешь сравнить?
– Понимаешь, в любом случае жизнь в клетке – это плохо, а
Советский Союз – это клетка. В клетке тоже есть положительные черты: там кормят
регулярно, там свет включен… А Израиль – это мой дом, без рисовки и без лицемерия.
– В этом доме тоже хватает проблем.
– Да, я же это описываю в «Супе с котом».
– Культурного шока не было?
– Нет. У нас бытовало мнение, что мы все очень
начитанные, а они ничего, кроме своей чековой книжки, не читают.
– Многие русские считают, что они представители более высокой
культуры, чем местный Левант.
– Так вот! – это бред сивой кобылы. Солженицын не зря назвал так называемую советскую
интеллигенцию «образованщиной». У нас было очень селективное воспитание и
селективная начитанность. Я как-то спросил Рагера, который окончил три
университета: один во Франции, один в Штатах и один в Израиле: «У тебя есть
любимая книжка?». «Да, –
говорит, – я ее каждый год перечитываю». – «Что это за книжка?» – «Сто лет одиночества».
Я имени Маркеса тогда еще не слышал, он в наше время был запрещен. Наше поколение
хорошо знало Поля Робсона, но мы не знали Луи Армстронга. Мы были в области
балета впереди планеты всей, но о том, что делали французы на балетной сцене,
мы не имели ни малейшего представления. Точно так же, в клетке, мы получали и
духовную пищу. Мы читали Говарда Фаста и Теодора Драйзера, и до 54-го года был
запрещен Эрнест Хемингуэй. А то, что мы читали много книжек, абстрагируясь от
того, какие книжки мы читали, а какие не читали, я могу сказать, что чтение у
нас было единственной формой интеллектуальной жизни. Западный человек,
израильтянин, может целый год читать туристический справочник, готовясь к
поездке за границу. Советский человек был лишен этого. Я поехал в турпоездку по
юго-восточной Азии. Нашим гидом был бригадный генерал в отставке, который до
этого был начальником отдела кадров армии обороны Израиля. Темой его докторской
диссертации была культура стран юго-восточной Азии. Он владел многими языками
этого региона. Он нам рассказывал о культуре, религии, историческом развитии
этих народов таким образом, что когда мы завершили поездку, у нас была
потрясающая картина, которая советскому человеку была недоступна. Есть разные
формы интеллектуальной жизни. У советского человека она ограничивалась
профессиональной учебой и чтением. В это чтение иногда прокрадывалось что-то,
имеющее настоящую культурную ценность. В основном я воспитывался на книгах «Как
закалялась сталь», «Белая береза», «Кавалер Золотой Звезды». Понимаешь, мы были
очень читающими, но что мы читали? То, что было нужно Иосифу Виссарионовичу
Сталину, или то, что было нужно для нормального интеллектуального развития? У
нас ведь не было выбора и не из чего было выбирать.
– А по отношению к выходцам из арабских стран у тебя нет
ощущения, что ты воспитан в более высокой культуре?
– Юлик, у Вики (нынешняя жена, – Ю.К.) вышла
книжка, ты ее получишь в подарок. Это ее стихи в переводе на иврит. Перевел эти
стихи доктор-историк Эли Бар-Хен, выходец из Туниса. Он приехал в Израиль в
десятилетнем возрасте, жил в кибуце, окончил школу, отслужил в армии, окончил
Иерусалимский Университет, увлекся древней Грецией и Римом, решил изучать это
все на месте, выучил греческий и уехал в Афины, в тамошний университет, потом
решил написать докторскую диссертацию и уехал Сорбонну. Это человек, который
разговаривает на всех европейских языках, он заведовал кафедрой в Иерусалимском
и Беэр-Шевском Университетах. Он сделал нам блестящие переводы. Деньги на
издание дал Марк Меерсон. Марк служил раньше в израильской разведке, прекрасно
знает русский язык. Он только посмотрел переводы и достал чековую книжку. Это к
теме о том, чем выходцы из арабских стран отличаются от нас. Там своя культура,
и она нисколько не ниже нашей европейской. Когда я был в Индии, я стал интересоваться
индийской культурой, а в Японии я стал интересоваться японской культурой. Эти
культуры очень отличаются от того, что привычно для нас, но это совсем не
значит, что эти культуры ниже европейских.
– Тебе приходилось работать с этими ребятами в
технических областях?
– Ну а как же…
– Они не уступают?
– Ты знаешь, меня потрясают йеменцы, с которыми я работал
в 72-73-м годах. Их родители прилетели сюда на самолете, внутри которого они
пытались разжигать костер, и они верили в то, что это ковер-самолет. А их дети
или внуки блестящие инженеры. И мне приходилось с ними работать.
– То есть вдолбленные нам в голову представления о
советской науке, советской культуре, они…
– Россия действительно страна большущей культуры, которую
я люблю… точно так же, как можно любить немецкую культуру и ненавидеть фашизм – это разные вещи. Но
как говорила Дарья Никандровна, нельзя быть вечным квартирантом. У каждого
человека должен быть свой дом. Израиль – мой дом: я здесь прожил уже 32 года,
вижу все недостатки, могу не любить своего премьер-министра, мне могут не
нравится некоторые законы…
– Именно потому, что это твой дом, ты можешь позволить
себе любить или не любить, причем публично. Там ты себе этого позволить не мог.
– Понимаешь, если бы там даже была демократия и если бы я
мог позволить себе бороться за что-то… Зачем мне эта борьба? – это не мое.
– Ивритскую культуру тебе удалось как-то постичь или ты
остался человеком только русской культуры?
– Я остался, конечно, человеком русской культуры. Кроме
того, у меня осталась идишская культура – это с детства.
– Но здесь этого как бы нет.
– Здесь этого нет в явном выражении, но все равно… в
интонациях, в характерах, в строе языка. Иврит всё же долгое время был сухим
языком, на котором было принято говорить с Б-гом.
– Сейчас это живой и достаточно развитый язык.
– Да, но обрати внимание на то, что Шолом-Алейхем на иврит
никак не переводится. А на русский – да, на украинский еще лучше. Идиш складывался
в этих ареалах. На иврите я очень люблю А.Б.Йегошуа – шикарный писатель.
– Сейчас снова начинают строить русскую партию…
– Это такое безобразие. Они обманывают избирателей. На
последних выборах Борухов кричал: «Если вы нас не выберете, вас всех повыгоняют
из хостелей*!»
– Политика по природе своей манипулятивна, демократия
тоже.
– Вот меня Бовин спросил: «Илья, почему ты не идешь в
политику?» А я ему говорю: «Грязное это дело, Александр Евгеньевич». «Вы правы,
грязное, грязное, но все зависит от того, какой человек ею занимается. Точно
так же, как твоя электроника или твое писательство могут быть грязным делом,
если грязный человек этим занимается». И он прав. Я столько грязи видел у себя
на заводе, а в бизнесе! А вот с Бовиным я убедился, что человек говорит то, что
думает, невзирая ни на что.
– Таких людей не бывает.
– Он позволяет себе больше, чем другие. Он старается быть
самим собой.
– Это высшее достижение. Есть немного людей, которые
могут себе это позволить. Как у тебя с ним сложилось? КГБ ко времени его
посольской миссии, видимо, снова перетрясли, и Николая Степановича отправили на
пенсию?
– Бовин не только ненавидел КГБ, он мне говорил, кто у
них в посольстве гебешники, надеясь, что я расскажу дальше. Начальником
консульского отдела там был генерал КГБ. Он его терпеть не мог.
– Бовину, наверное, нравились твои рассказы?
– Да. Так вот, к русской партии. Я знаю, что обращение к
Щаранскому всегда заканчивалось ничем. А Браиловский помогал. Есть
доказательства.
– Израильское общество имеет клановую структуру, в его
сложной мозаике единая культура еще не создана.
– А в Америке она создана?
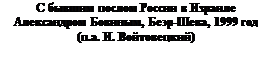
 – В Америке есть одна доминантная культура, которая существовала там еще до
того, как Америка стала Америкой.
– В Америке есть одна доминантная культура, которая существовала там еще до
того, как Америка стала Америкой.
– Израиль вначале проводил политику плавильного котла.
Приезжали горские евреи, которые привыкли жить хамулами*. Их здесь разбивали.
Одного посылали в Димону, другого в Ерухам, третьего к черту на рога. Они потом
бросали там свои квартиры, съезжались вместе, жили в одной квартире по 10-15
семей – это был какой-то кошмар. А государство закрывало на это глаза и продолжало
проводить прежнюю политику. Когда Арик Шарон пошел в политику, его не хотели
брать ни в какую партию, тогда он создал собственную партию «Шлом Цион». Я был
с ним лично знаком, очень хорошо к нему относился, и он сделал меня координатором
русского штаба в Беер-Шеве. Арик решил поехать в Димону, я поехал с ним, и мы
встретили там горских евреев. Он мне говорит: «Скажи им, что я тоже с Кавказа».
Они начинают ему жаловаться. Он им говорит: «Кто я сейчас? Я генерал в
отставке. Выберите меня, и я буду считать себя вашим представителем, и мои
двери будут для вас открыты». «За Родину, за Арика» – вся Димона проголосовали
за «Шлом Цион». Как-то после выборов, я тогда работал на железной дороге, мне
надо было заехать Димону. Подъезжаю, а диспетчер по рации мне кричит: «Илиягу,
не приближайся к железнодорожной станции, здесь тебя прикончат. Тут проходит
массовая демонстрация горских евреев, и они кричат, что хотят тебя прикончить».
Я закрыл окна, подъезжаю к станции. Там уйма народа. Я спрашиваю: «Ребята, в
чем дело?» – «Ай-й-йа… ты нас обманул!» Что произошло? Арика выбрали, и горские евреи
поехали к нему в Кнессет. Он их не принял. Они разбили палатки возле его
приемной. Вышел его представитель и сказал: «Если у вас есть вопросы к депутату
Кнессета Шарону, то изложите их письменно, и он ответит вам письменно». Как эти
горские евреи будут излагать ему свои вопросы письменно? В этом был весь Арик.
– У него же был один мандат, что он мог с ним сделать?
– Ну хотя бы принять, он же обещал.
– Илья, ты счастливый человек?
– Если посмотреть на весь жизненный путь, то, наверное,
да. Бывают дни, когда я очень несчастен, бывают дни, когда мне кажется, что я
наложу на себя руки. Всё бывает, и это естественно. Позвонят, например, из
банка и скажут, что закрывают счет, потому что там большой минус, а заполнить
этот минус нечем… больше, чем мне платят, я зарабатывать не могу.
– Почему ты не делаешь маркетинг своим книгам?
– Я не умею этого делать.
– Пусть это делает профессионал – дай ему 50 %... У тебя
же хорошие книги.
– Не пойдет. Люди покупают не хорошие книги, а имена. Один
очень маститый в России литератор пишет здесь бред сивой кобылы, а на его
вечера люди буквально ломятся, его покупают, ставят на полку...
– Ты знаешь, я как-то пригласил его – догадываюсь о ком ты – на вечер встречи в Тель-Авиве, и он великолепно
выступил. В отличие от дежурных болтунов он сумел расшевелить и затронуть
аудиторию: там был контакт, звучала струна – он в точку попал.
– Если ты послушаешь его несколько раз, то убедишься, что
он говорит всё время одно и то же.
– Насколько я знаю, ты много занимался Валерой Кукуем,
когда он сидел.
– Все три года, что он сидел, я посвятил ему и Маркману.
У меня даже проблемы на работе из-за этого появились. Я публиковал статьи в
газетах, выступал, и имя Кукуя звучало и было одним из самых популярных. Я ведь
Кукуя не знал, а его поведение на суде было для меня чем-то очень важным.
Человек не сломался, совсем не сломался... Это придавало мне сил. Я чувствовал
себя просто обязанным сделать всё, чтобы как-то облегчить его существование, и
он мне потом говорил, что он это там чувствовал. Каждый раз, когда здесь
поднималась очередная кампания в его защиту, он это чувствовал.
– Да, многие заключенные имели сходный опыт. У меня тоже
такое было.
– И когда он приехал, я, естественно, был его адресом. Я
стал его личным водителем, везде его представлял, занимался его делами.
– Как ты относился к нешире*?
– Тогда и сейчас я к ней плохо отношусь.
– Ты считаешь, что люди, которые выезжали по израильским
визам, должны были ехать в Израиль?
– Ты знаешь, я никому не даю указаний. Я могу давать
указания только себе. Даже сейчас на наших литературных вечерах я не говорю,
что такая-то рифма плохая или такой-то оборот неверен. Я говорю, что если бы
это писал я, то себе бы это не позволил. Но автор может выбросить в помойное
ведро все, что я говорю. То же самое по отношению к людям. Если я говорю, что я
плохо к ним отношусь, это значит, что я к ним плохо отношусь в том смысле, что
я себе не позволил бы поступать так, как это делают они.
– Ты против каких бы то ни было административных мер?
– Да, конечно, мы уже были в стране, в которой были
административные меры. Эта страна развалилась. Нужно создать условия, чтобы
люди захотели. Есть рычаги, статусы, налогообложение, льготы. Наш с тобой
приезд сюда был лишен каких бы то ни было меркантильных соображений. Мы ехали
сюда, потому что мы евреи и считали, что мы должны здесь жить. Массу невозможно
заставить быть идеологизированной. Нельзя человеку сказать: «Будь моральным».
– Человек хочет ехать в Израиль, есть квота, его место
захватывает человек, который едет в Америку и делает это по израильской визе.
Как тут быть? Человек едет в Америку громко, топчет израильскую визу, сидит в
Вене или Ладисполи месяцами, а то и годами, раздает интервью о том, как
ограничивают его право выбора. Всё это наблюдают советские власти, которые
делают всё возможное, чтобы остановить алию, а тут такой предлог, да куда там
предлог – прямой обман и подлог. Как тут быть? Репатриацию в Израиль еще как-то
можно было объяснить, а бегство на Запад из советского рая было прямым подрывом советской пропаганды на
Запад.
– С возрастом я стал
менее категоричен. Тогда я тоже приводил все эти аргументы…
– Сейчас ситуация кардинально изменилось. Сейчас это
только споры о морали и национальных интересах, а не о судьбах, жизни и смерти
многих сотен тысяч евреев. Вот эмигрировать в Германию на их хлеба, это
морально или нет? Каждый выбирает в силу своих моральных и национальных устоев.
Скажи мне, как ты оцениваешь перспективы еврейской национальной жизни в России?
– Я могу говорить только снаружи. Меня там давно нет. Я
все больше и больше склоняюсь к тому, что галут*, как это ни парадоксально,
сохраняет нацию. Ведь люди, родившиеся здесь не в религиозном доме, во втором и
третьем поколении просто перестают ощущать еврейство: они никогда не нюхали
антисемитизма, не понимают, что это такое, и становятся как все.
- При этом они говорят на иврите, изучают Танах…
– Уже ведется борьба, чтобы Танах стал факультативным
предметом.
– Религия – это вопрос мировоззрения, совести, свободы,
наконец. Есть арабы-христиане и есть арабы-мусульмане. Никому в голову не
придет сказать, что араб-христианин – не араб, перестал быть арабом. В Америке – веруй во что хочешь, хоть в черта,
ты – американец.
– Как только появляется право на существование еврея-мусульманина или еврея-христианина,
сразу отпадает проблема духа. Тогда остается только кровь, генетика. А если я –
русский, принявший иудаизм, кто я? Вот мой бывший начальник по фамилии Баранов
был потомком таких евреев. Попробуй, скажи ему, что он не еврей. Царское
правительство их преследовало, они приехали сюда, на историческую родину, от
них пошел мощный род Барановых. У него вполне славянская внешность, но очень
еврейская душа. 500 лет прошло со времени испанской инквизиции, а Франко
помнил, что он из евреев и во время Второй мировой войны спасал евреев.
У нас в Беер-Шеве лучшая литературная студия в Израиле. Нас часто приглашают
выступать. Приезжаю я в какой-нибудь дом престарелых, сидят там интеллигентные
люди, бывшие ученые, преподаватели. Начинаешь после выступления с ними
разговаривать: у одного сын в Германии, у другого в Канаде. То есть они
присылают сюда своих стариков получать пособие, а сами едут в Германию или
Канаду становиться неевреями – вот этого я терпеть не мог. С такими я даже не
мог общаться… но к старости человек становится мягче, терпимее.
– Спасибо, Илья.